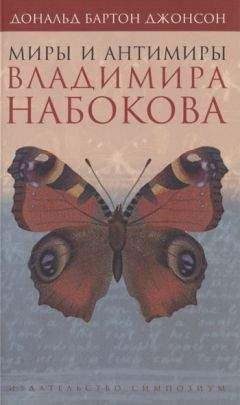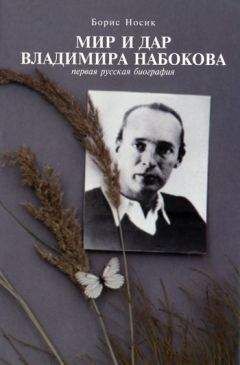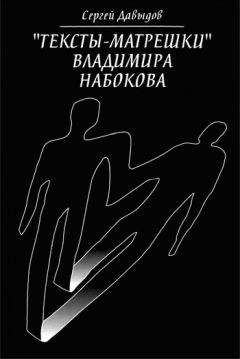Нора Букс - Эшафот в хрустальном дворце: О русских романах В. Набокова
Другой пример: рецензия Линева на сборник Кончеева «Сообщение» уже полностью подавляет стихи, они существуют только как «обрубки» — «три четверти стиха, обращенных посредством кавычек в плоское утверждение» (с. 191).
Деиерархизация в «Даре» осуществляется на уровне литературных образов. Так, например, в романе неоднократно возникает пушкинская пара: поэт и импровизатор (подробнее о теме «Египетских ночей» см. ниже). Один из ее вариантов — поэт Годунов-Чердынцев и бездарный писатель Буш. Портрет Буша — «постаревшее» пародийное отражение пушкинского импровизатора: «Рослый дородный господин с крупными чертами лица, в черной фетровой шляпе (из-под нее — каштановый клок)» (с. 234–235).
«Это пальто, черная шляпа и кудря делали его похожим на гипнотизера, шахматного маэстро или музыканта».
(с. 235)Ср. у Пушкина:
«Он был высокого росту, худощав […] высокий лоб, осененный черными клоками волос […] шершавая шляпа, казалось, видала и ведро и ненастье. Встретясь с этим человеком в лесу, вы приняли бы его за разбойника; в обществе — за политического заговорщика; в передней — за шарлатана»[233].
В отличие от пушкинского сюжета, в «Даре» не поэт протежирует импровизатору, а импровизатор — поэту: Буш пристраивает роман Годунова-Чердынцева к своему издателю, для которого «литература — закрытая книга» (с. 236).
Наконец, в набоковском произведении пересмотру подвергается и самое понятие причастности к литературе, как на уровне произведений (например, в главе II воспоминания поэта об отце отводятся как литературно не состоявшиеся (с. 156), а мемуары Сухощокова, в которых фигурирует дядя Чёрдынцева и пожилой Пушкин, приобретают статус исторического, литературного факта), так и на уровне их производителей. Цитирую отрывок из описания собрания Общества Русских Литераторов:
«Чистые литераторы теснились вместе […] Керн, занимавшийся главным образом турбинами, но когда-то близко знавший Александра Блока […] Гурман […] Его прикосновенность к литературе исчерпывалась недолгим и всецело коммерческим отношением к какому-то немецкому издательству технических справочников […] Лишневский […] единственным его печатным произведением было письмо в редакцию одесской газеты, в котором он возмущенно отмежевывался от неблаговидного однофамильца, оказавшегося впоследствии его родственником, затем его двойником, и наконец, — им самим» (с. 357–358).
Налицо в романе и деиерархизация символики. Вифлеемская звезда, оповещающая о рождении Христа, в «Даре» вначале появляется как звезда коммерческой эпохи: «В витринах универсального магазина какой-то мерзавец придумал выставить истуканы лыжников, на бертолетовом снегу, под Вифлеемской звездой» (с. 103), а затем как символ надвигающейся гибели — восходящего фашизма: «хрустальный хруст той ночи христианской под хризолитовой звездой…» (с. 395).
2Оппозиционная природа конструирующих принципов определила и другую структурную организующую «Дара» — «хронологию»/«внетемпоральность».
Несмотря на выбор жанра произведения — биографический роман, где, казалось бы, основной является координата времени, Набоков демонстративно отказывается от какого-либо темпорального измерения, объявляя единственной категорией настоящее, т. е. момент прочтения, осознания, создания, воспроизведения текста:
«Наше превратное чувство времени, как некоего роста, есть следствие нашей конечности, которая, всегда находясь на уровне настоящего, подразумевает его постоянное повышение между водяной бездной прошедшего и воздушной бездной будущего, (заявляет Годунов-Чердынцев. — Н. Б.). Наиболее для меня заманчивое мнение, — что времени нет, что все есть некое настоящее, которое, как сияние, находится вне нашей слепоты».
(с. 384)Такое единственное настоящее и организует биографическое пространство, переводит жизнь в текст. Эта трансформация — следствие приема, который можно назвать «буквализацией» жанра; ретроспективный пересказ-пересмотр жизни понимается как составление биографии, т. е. создание текста, который соответственно строится уже не по жизненным, а по композиционным законам. Темпоральная последовательность уступает место последовательности тематической, а взаимодействие тем осуществляет сюжетное движение.
Декларативным воплощением этого приема служит глава IV: в Жизнеописании Н. Г. Чернышевского выделяются не этапы его пути, а основные темы его жизни-текста, которые, развиваясь, организуют романное повествование, а в финале получают свое завершение. Например:
«…в той или иной точке намечается дальнейший путь данной темы — темы „прописей“… вот уже студентом Николай Гаврилович украдкой списывает: „Человек есть то, что ест“ […] Развивается, замечаем, и тема „близорукости“, начавшаяся с того, что он отроком знал только те лица, которые целовал, и видел лишь четыре из семи звезд Большой Медведицы».
(с. 241)Далее вступает тема очков, которая «тут до поры до времени мутится […] Проследим и другую тему „ангельской ясности“. Она в дальнейшем развивается так: Христос умер за человечество, ибо любил человечество, которое я тоже люблю, за которое умру тоже» (с. 242).
Литературной терминологией определяются судьбы-тексты разных персонажей; например, о Гурмане: «главной же темой его личности, фабулой его существования, была спекуляция» (с. 357–358).
Смерть в жизни-тексте является не завершением его, а темой, но темой, как уже было сказано выше, определяющей все предшествующее жизненное повествование. Например, из рецензии Мортуса: «Один пишет лучше, другой хуже, и всякого в конце пути поджидает Тема, которой „не избежит никто“» (с. 339). «А я ведь всю жизнь думал о смерти (говорит умирающий А. Я. Чернышевский. — Н. Б.), и если жил, то жил всегда на полях этой книги, которую не умею прочесть» (с. 348).
Знаменательно, что последними словами умирающего Н. Г. Чернышевского были: «„Странное дело: в этой книге ни разу не упоминается о Боге“. Жаль, что мы не знаем, какую именно книгу он про себя читал» (с. 334). Учитывая прием текстуального воплощения человеческой судьбы, остается допустить, что это была книга его собственной жизни.
Такое отождествление жизни с литературным произведением восходит к пушкинскому «Евгению Онегину»:
Блажен, кто праздник жизни рано
Оставил, не допив до дна
Бокала полного вина,
Кто не дочел ее романа
И вдруг умел расстаться с ним,
Как я с Онегиным моим.
«Поэт, — пишет Ю. Лотман, — который на протяжении всего произведения выступал перед нами в противоречивой роли автора и творца, созданием которого, однако, оказывается не литературное произведение, а нечто прямо ему противоположное — кусок живой Жизни, вдруг предстает перед нами как читатель, т. е. человек, связанный с текстом. Но здесь текстом оказывается Жизнь»[234].
Набоков в «Даре» создает три ипостаси одного персонажа: автор(текста) — творец(жизни) — читатель; но ипостаси пародийные.
Повествование «Дара» составляют не только различные тексты, но и сам процесс их создания. И если в романных биографиях традиционная темпоральная координата отброшена, то в описании творческого процесса она традиционно сохранена, но не как историческая аттестация, а как показатель последовательности развития культуры, репетитивности ее этапов и бесконечности этой репетитивности. Творческий процесс в романе воспроизведен не только как создание отдельного произведения, но как модель законченного периода единого культурологического ряда.
Он прослеживается поступенчато, начиная от зарождения художественного текста. Примеров таких в романе множество, в частности, начало главы III, утро, пробуждение героя.
Годунов-Чердынцев воспринимает окружающий мир на звуковом уровне:
«Каждое утро, в начале девятого, один и тот же звук за тонкой стеной, в аршине от его виска, выводил его из дремоты. Это был чистый, круглодонный звон стакана, ставимого обратно на стеклянную полочку; после чего хозяйская дочка откашливалась. Потом был прерывистый треск вращающегося валика, потом — спуск воды, захлебывающейся, стонущей и вдруг пропадавшей, потом — загадочный вой ванного крана, превращавшийся наконец в шорох душа. Звякала задвижка, мимо двери удалялись шаги…».
(с. 165)Далее эти внешние звуки постепенно организуются в поэтический текст. Стихи возникают из размышлений, мечтаний:
«Он был исполнен блаженнейшего чувства: это был пульсирующий туман, вдруг начинавший говорить человеческим голосом. Лучше этих мгновений ничего не могло быть на свете. Люби лишь то, что редкостно и мнимо, что крадется окраинами сна, что злит глупцов, что смердами казнимо; как родине, будь вымыслу верна».