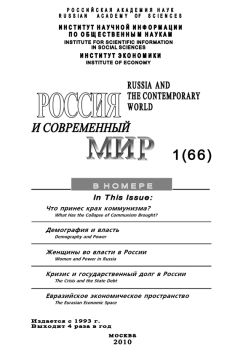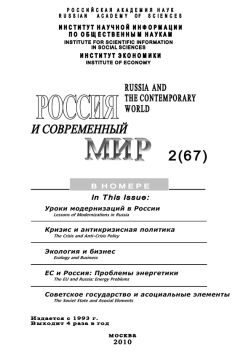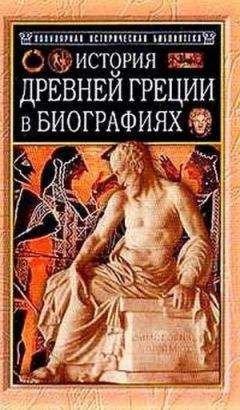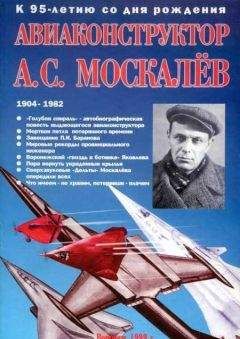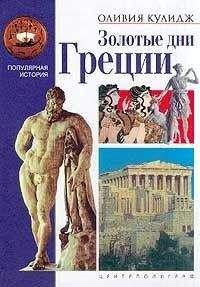Юрий Игрицкий - Россия и современный мир № 3 / 2010
Идеологическим оформлением «возврата» государства стала концепция суверенной демократии. Ее создатель В.Ю. Сурков в последние годы предлагал несколько определений суверенной демократии, различающихся в своих нюансах. Первое из них, озвученное Сурковым в феврале 2006 г. в выступлении перед активом «Единой России», таково: суверенная демократия – это «образ политической жизни общества, при котором власти, их органы и действия выбираются, формируются и направляются исключительно российской нацией во всем ее многообразии и целостности ради достижения материального благосостояния, свободы и справедливости всеми гражданами, социальными группами и народами, ее образующими» (21). В данном определении постулируется наличие российской нации, хотя, скорее, именно идея суверенной демократии является очередным и на сегодня наиболее значимым усилием власти по конституированию этой самой нации. Точнее, при помощи идеи суверенной демократии власть очерчивает те рамки, в которых сегодня российскую нацию можно вообразить.
Охранительная суть концепции суверенной демократии сомнений не вызывает. Но из этого не следует, что аргументацию в пользу идеи суверенной демократии можно игнорировать или что эта концепция методологически ошибочна. Критики Суркова нередко воспроизводят замечание Путина на встрече с участниками международного дискуссионного клуба «Валдай» (сентябрь 2007 г.) о том, что нельзя соединять понятия суверенитета и демократии, одно из которых характеризует внешние отношения, а другое – внутреннее политическое устройство (18, с. 121). Но здесь, в частности, можно вспомнить, что незадолго до провозглашения у нас доктрины суверенной демократии З. Бжезинский (а в западном политологическом сообществе не найдется более сильного раздражителя для российских идеологов власти, чем этот ветеран «холодной войны») опубликовал статью «Дилемма последнего суверена» (ее русский перевод озаглавлен «Последний суверен на распутье»). Очевидно, что в России наибольшее внимание привлекла не столько критика Бжезинским бушевской версии американского унилатерализма, сколько концепция иерархии суверенитетов, на вершине которой находятся, разумеется, США. В версии Бжезинского вторжение в Ирак или отказ от Киотского протокола демонстрируют уникальность Америки как последнего подлинно суверенного государства. Суверенитет США рассматривается Бжезинским как ключ к решению глобальных проблем: «Слабость формально независимых государств, которые на самом деле становятся все более зависимыми или даже неспособными к автономному существованию, должна быть компенсирована за счет укрепления наднационального сотрудничества, активно продвигаемого Соединенными Штатами. …Америка должна задавать тон в построении такого мира, который бы в меньшей степени уповал на химеру государственного суверенитета и в большей – ориентировался на неуклонно возрастающую и политически регулируемую взаимозависимость. Поскольку глобализация не только несет с собой новый взгляд на экономические проблемы, но и все глубже трансформирует политические отношения, американский суверенитет, поставленный на службу общему благу, вызовет, по всей видимости, более весомое и стойкое одобрение в мире, нежели нынешняя всепоглощенность Америки собственной безопасностью» (2, с. 23). Ситуация с «более весомым и стойким одобрением» за прошедшие пять лет в основном прояснилась; куда важнее сам принцип. Даже если абсорбция последним сувереном чужого суверенитета и в самом деле где-то происходит с одобрения его прежних носителей, то насколько это одобрение легитимно? Если демократию понимать как право нации через механизм свободных выборов делегировать кому-либо из своих граждан полномочия принимать решения, касающиеся интересов данной нации, то как совместимо такое понимание демократии с глобальными полномочиями последнего суверена? Ведь центр принятия многих важных решений оказывается за пределами соответствующей политики. А это значит, что расставание с «химерой суверенитета» равносильно эрозии демократии. Отчасти такая эрозия, или – если применять более мягкое выражение – «трансформация» демократии происходит по объективным причинам, связанным с процессами интернационализации и глобализации (5, с. 484–485), но в данном случае, во-первых, десуверенизация возводится в нормативный принцип, и, во-вторых, вместо дисперсии суверенитета предлагается его абсорбция в едином центре.
Аналогичные сомнения высказывают и евроскептики, считающие пагубным делегирование все большей доли суверенитета национальных государств наднациональным институтам Евросоюза. Например, Ральф Дарендорф отмечает: «Конституции конституируют права. Права есть юридические гарантии. Это не просто пустые обещания и красивые слова. …Права делают необходимым создание аппарата принуждения, или санкционирующих инстанций. Все три классических власти находят здесь свое место. Но эти власти существуют в совершенной форме только в национальном государстве. Тот, кто отказывается от национального государства, теряет вместе с этим эффективные гарантии своих основных прав. Тот, кто сегодня национальное государство считает излишним, объявляет вместе с этим – быть может даже непреднамеренно – излишними гражданские права» (26, с. 109).
Вообще говоря, и сэр Ральф Дарендорф, и высокопоставленный российский чиновник Владислав Сурков, защищая суверенитет, отстаивают принципы демократии. Только в случае Суркова речь идет совсем не о либеральной демократии. Здесь важно понимать, что неолиберальная демократия в России – это не какое-то новообразование, воспроизводящее (как предполагает Ф. Закария) (6, с. 90) опыт латиномериканских режимов 1960–1970 гг., а очередная реинкарнация Русской системы, вновь вызванная к жизни отнюдь не вопреки воле большинства российских избирателей.
Итак, болезненная адаптация общества к новой реальности, «возврат» государства (и по существу, и на символическом уровне), усилия власти по разработке политической идеологии – не является ли все это ингредиентами постсоветской национально-государственной идентичности? Несомненно, да, но набор необходимых ингредиентов все еще не полон. Требуются более общие и устойчивые ценностно-нормативные основания, развернутые как в прошлое, так и в будущее. И прежде всего речь здесь идет о традициях как факторе национального сплочения. Суть проблемы, перефразировав Ленина, блестяще сформулировал А.Б. Гофман: от какого наследства мы не отказываемся? По его словам, «в современной России ситуация с традициями и инновациями, их взаимодействием, отношением к ним со стороны интеллектуалов и власти отличается чрезвычайной неопределенностью, многозначностью, амбивалентностью, синкретизмом» (4, с. 50). Основная сложность состоит в том, что современная Россия – это не страна без традиций, а, скорее, страна с обрывками традиций. Любое обращение к традиции в современных условиях – это новая сборка, конструктивистское действие. Упомянутые выше усилия путинской команды по утверждению государственной символики постсоветской России как раз являются примером такого рода конструктивизма, причем вполне успешного. Очевидно, что сегодня имеются довольно широкие (но не безграничные!) возможности комбинаторики традиций и инноваций, собственного и заимствованного опыта. Например, усилие В. Суркова провозгласить новую синкретическую ценностную триаду в составе материального успеха, свободы и справедливости можно рассматривать как попытку воспользоваться существующими разрывами культурной традиции (см.: 11).
Здесь будет уместно вспомнить старую, но продолжающую действовать формулу нации Эрнеста Ренана: «Нация – это душа, духовный принцип. Две вещи, которые в действительности являются лишь одной, создают эту душу, этот духовный принцип. Одна относится к прошлому, другая – к настоящему. Одна является совместным обладанием богатым наследием воспоминаний, другая есть актуальное согласие, желание жить вместе, воля продолжать пользоваться доставшимся неразделенным наследством» (29, с. 46). Надо полагать, что теперь, по первой части этой формулы, нужно решать более сложную задачу, а именно: как-то распорядиться «богатым наследием воспоминаний». Показательно, что российская власть и при Ельцине, и при Путине очень долго не решалась подступиться к этой задаче. Споры об истории были частью общественной дискуссии, но на уровне официальной риторики подавались (и подаются до сих пор) довольно противоречивые сигналы. Но в последнее время, во многом в связи с системными усилиями представителей политической и интеллектуальной элит стран Балто-Черноморского региона по конструированию желательной для них версии исторического прошлого российская власть стала втягиваться в «историческую политику». И, похоже, втягиваться всерьез и надолго. Вполне вероятно, что решив первоочередные задачи и создав иллюзию адекватного ответа центрально– и восточноевропейским «фальсификаторам», наша историческая политика перейдет в стадию целенаправленной инвентаризации и комплексной реинтерпретации «богатого наследия воспоминаний». Так что, говоря словами Люсьена Февра, самые ожесточенные combats pour l'histoire нам еще предстоят.