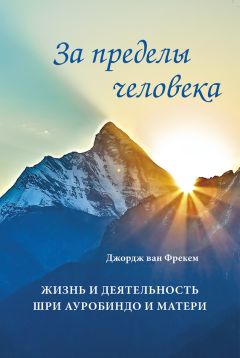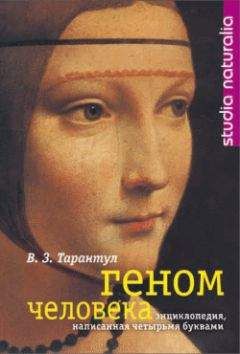Фрэнсис Коллинз - Доказательство Бога
Таким образом, я сделался агностиком, хотя сам термин, изобретенный в XIX в. ученым Томасом Хаксли (Гексли) и обозначающий человека, просто не знающего, есть ли Бог, был мне в то время незнаком. Существуют разные виды агностицизма: некоторые приходят к нему в результате тщательного анализа действительности, но для очень многих это просто удобная точка зрения, позволяющая не думать о тревожащих вопросах. Я определенно принадлежал к этой второй категории. В действительности мое «не знаю» было больше похоже на «не желаю знать». Мне, молодому человеку, растущему в полном соблазнов мире, не хотелось чувствовать ответственность перед каким бы то ни было высшим духовным авторитетом. Фактически это был тот самый образ мыслей и поведения, который знаменитый философ и писатель Клайв Стейплз Льюис назвал «добровольным ослеплением».
После окончания колледжа я поступил в аспирантуру Йельского университета и приступил к работе над диссертацией по физической химии. Как и прежде, меня влекло математическое изящество этой области науки. Я с головой окунулся в квантовую механику и дифференциальные уравнения второго порядка, а моими кумирами были в то время великие физики — Альберт Эйнштейн, Нильс Бор, Вернер Гейзенберг и Поль Дирак. Постепенно я пришел к убеждению, что все во вселенной объяснимо с помощью уравнений и основных принципов физической науки. Я прочитал биографию Эйнштейна и узнал, что он не верил в Яхве, бога еврейского народа, хотя и занял после Второй мировой войны твердую сионистскую позицию. Это еще больше укрепило меня во мнении, что ни один думающий ученый не может всерьез рассматривать возможность существования Бога, не совершив своего рода интеллектуальное самоубийство. Так я постепенно перешел от агностицизма к атеизму. Мне нравилось оспаривать религиозные верования всякого, кто упоминал о них в моем присутствии, высмеивая их как сентиментальность и отживший предрассудок.
После двух лет занятий в аспирантуре мой расписанный до мелочей план начал разваливаться. Несмотря на радость, которую доставляла мне работа над диссертацией по теоретической квантовой механике, я начал сомневаться в правильности сделанного выбора. Крупные достижения в этой области относились по большей части к периоду пятидесятилетней давности, так что весь мой будущий вклад в науку с большой вероятностью свелся бы к упрощениям и приближениям, лишь незначительно продвигающим нас к решению элегантных, но «неподдающихся» уравнений. С практической точки зрения это неизбежно означало карьеру профессора, год за годом читающего бесконечные лекции по термодинамике и статистической механике студентам, которым эти предметы внушают скуку, страх или оба этих чувства одновременно.
Примерно в то же время в попытке расширить свой кругозор я записался на курс биохимии, приобщившись таким образом к биологическим наукам, которых прежде старательно избегал. Курс совершенно меня потряс. Непонятное мне до тех пор строение ДНК, РНК и белков предстало передо мной во всем своем математическом великолепии. Благодаря открытию генетического кода биология стала наукой, в которой возможно применение строгих научных принципов, — напрасно это казалось мне немыслимым! А новые методы соединения между собой разных фрагментов ДНК (рекомбинации ДНК) создавали вполне реальную перспективу применения полученных знаний для блага людей. Я был поражен: оказывается, в биологии все же есть математическое изящество, в котором я ей так упорно отказывал. Жизнь осмысленна.
Одновременно я, двадцатидвухлетний, но уже женатый молодой человек и отец умной любопытной девочки, становился все более общительным. Раньше я часто предпочитал оставаться в одиночестве, теперь мне сильнее хотелось быть с людьми и внести свой вклад в жизнь человечества. Осмыслив произошедшие во мне перемены, я стал пересматривать все свои решения, принятые ранее, включая и сам выбор в пользу научно-исследовательской работы. Диссертация была уже почти готова, и тем не менее после напряженных раздумий я подал заявление о приеме в медицинский колледж. Я произнес перед членами приемной комиссии тщательно продуманную речь, в которой пытался убедить их, что такой поворот событий — в действительности естественный путь подготовки будущего американского врача. В душе я не был так уж в этом уверен. Ведь биология когда-то была мне ненавистна из-за необходимости заучивать множество вещей, а какая наука требует больше запоминания, чем медицина? Однако ситуация переменилась: я собирался изучать человека, а не краба; знал, что детали определяются базовыми принципами; верил, что мои занятия могут в итоге принести реальную пользу людям.
Через несколько недель пребывания в Университете штата Северная Каролина я уже твердо знал, что медицинский колледж — именно то место, где мне следует находиться. Мне нравились и задания, требующие напряженной умственной работы, и необходимость думать над сложными проблемами, связанными с этикой, и непредсказуемость человеческого фактора, и невообразимая сложность нашего тела. В декабре своего первого года занятий медициной я понял, как соединить мою новую любовь — медицину — со старой — математикой. Путь мне указал суровый и довольно неприветливый педиатр, читавший нам, первокурсникам, курс медицинской генетики общей продолжительностью шесть часов. Он доставил в аудиторию пациентов, болезни которых — серповидноклеточная анемия, галактоземия (непереносимость молочных продуктов, нередко фатальная) и синдром Дауна — были вызваны отклонениями в геноме, иногда крошечными — всего в одной букве кода.
Изящество генетического кода и последствия редких сбоев в механизме копирования произвели на меня сильнейшее впечатление. Хотя возможность на практике помочь многим и многим людям, страдающим наследственными заболеваниями, представлялась весьма отдаленной, меня сразу потянуло в эту сферу. Конечно, в то время никто еще не задумывался о возможности чего-либо столь грандиозного по замыслу и последствиям как полная расшифровка генома человека, но именно тогда, в декабре 1973 г., я вступил на дорогу, которая со временем привела меня к участию в одном из самых великих деяний в истории человечества.
На третьем курсе у нас началась интенсивная медицинская практика. Как будущие врачи, студенты-медики оказываются в максимально близких отношениях с людьми, прежде им абсолютно чужими. Доктор вступает с пациентом в физический контакт, и культурные барьеры, в обычной ситуации мешающие обмену интимной информацией, рушатся. Таковы издавна чтимые отношения между больным и целителем. Общение со страдающими и умирающими людьми производило на меня сильнейшее впечатление; мне лишь с большим трудом удавалось сохранять профессиональную дистанцию и сдерживать эмоции, к чему призывали нас многие из преподавателей.
Разговаривая с больными, я глубоко поражался тому, как проявляется в тяжелых обстоятельствах вера этих простых жителей Северной Каролины.
Много раз мне доводилось наблюдать людей, которым вера придавала мужества, помогая переносить ужасающие — и в большинстве случаев ничем не заслуженные — мучения. Отсюда я заключил, что если вера — психологическая подпорка, то, безусловно, очень мощная. И это не просто дань уважения культурной традиции — иначе почему мои пациенты не злятся на Бога, не требуют от друзей и близких прекратить какие бы то ни было разговоры о любящей и милосердной сверхъестественной силе?
Хуже всего мне пришлось, когда пожилая женщина, страдающая тяжелой неизлечимой формой стенокардии, спросила меня о моей вере. У нее было на то полное право: мы успели уже обсудить много важных тем, касающихся жизни и смерти, и она — верующая христианка — рассказала мне о своих религиозных воззрениях. Пробормотав «я на самом деле не уверен», я почувствовал, что краснею. Пациентка искренне удивилась, и мне стало еще более неловко. Я понял, что почти все свои 26 лет убегал от этого вопроса — ведь я ни разу по-настоящему не обдумывал доводы за и против веры.
Несколько дней тот случай не давал мне покоя. Разве я не ученый? Разве настоящий ученый делает выводы, не проанализировав данные? Разве вопрос о существовании Бога — не самый важный для человеческого бытия? И все же сочетание добровольного ослепления с чем-то еще, что правильнее всего было бы назвать самоуверенностью, мешает мне всерьез рассматривать самую возможность того, что Бог есть. Внезапно все мои аргументы утратили силу, и ощущение было такое, как будто лед трескается у меня под ногами.
Я ужаснулся: что же получается? Если я не могу больше поручиться за твердость своих атеистических взглядов, следует ли мне взять на себя ответственность за поступки, о которых я предпочел бы никому не рассказывать? Отвечаю ли я за них перед кем-нибудь, кроме себя самого? Уходить от вопроса, как я делал это раньше, теперь стало невозможно.