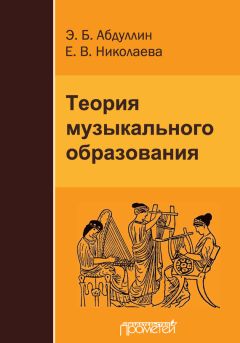Франсиско Феррер–и-Гуардия - Современная школа
В нашей стране идут дискуссии о праве государства и религиозных организаций диктовать обществу содержание образования, вводить в курс изучаемых предметов обязательное изучение основ религий. Часто можно услышать резко критические отзывы о системе Единого государственного экзамена (ЕГЭ). В свете этих событий можно признать, что из высказанных Феррером идей весьма актуальны принцип автономии школы от государства и право сообществ родителей, учащихся и учителей определять содержание образования. Ведь именно в русской общественной мысли конца XIX — начала XX вв. были весьма распространены идеи о реорганизации системы образования на основе независимых от государственных структур, самоуправляющихся, доступных для всех и бесплатных учебно-воспитательных учреждений, находящихся в ведении территориальных общин и свободных союзов жителей. Эти идеи прослеживаются в трудах педагога, теоретика и пропагандиста свободного воспитания К. Н. Вентцеля, М. А. Бакунина и Л. Н. Толстого. Безусловно, могут быть актуальны для наших дней и другие педагогические принципы, практиковавшиеся Феррером. Среди них — устранение в образовательном процессе иерархии, отказ от ориентации на конкуренцию и отбор сильнейших (включая оценки). В той или иной степени эти идеи могут быть воплощены в жизнь на практике с учетом как достижений современной науки, так и сложившихся социальных условий. И мы надеемся, что книга Франсиско Феррера окажет здесь свое влияние.
Д. И. Рублёв, кандидат исторических наукI. Предварительное изложение
Мое участие в революционной борьбе конца прошлого века подвергло испытаниям мои убеждения.
Будучи революционером, вдохновленным идеалами справедливости, считая свободу, равенство и братство логическим и позитивным следствием установления Республики, находясь под влиянием общепринятого предрассудка и не видя другого пути для достижения этого идеала, кроме политического действия, которое должно было предшествовать преобразованию правящей системы общественного устройства, я посвятил все свои усилия республиканской политике.
Благодаря своей дружбе с доном Мануэлем Руисом Соррильей, которого можно было считать центральной фигурой в революционном движении, я вступил в контакт со многими испанскими революционерами и со многими известными французскими республиканцами, но все эти знакомства привели меня к большому разочарованию: в одних я видел лицемерно скрываемый эгоизм, в других, более искренних, я обнаруживал лишь недостаток идеалов — и при этом никто не осознавал необходимости реализовать радикальные преобразования, которые касались бы самых основ, гарантируя абсолютное социальное перерождение.
Опыт, приобретенный мной в течение пятнадцати лет проживания в Париже, где я столкнулся с кризисом буланжизма, дрейфусизма и национализма, представлявшим собой опасность для Республики, убедил меня в том, что до сих пор нерешенной остается проблема народного образования, а поскольку она остается нерешенной во Франции, тем менее можно было ожидать, что ее сможет разрешить испанский республиканизм, который всегда демонстрировал самое прискорбное непонимание центральной значимости, которым обладает система образования для народа.
Представьте себе, каким было бы нынешнее поколение, если бы испанская республиканская партия, после ссылки Руиса Соррильи, посвятила бы свои усилия основанию рационалистических школ, по одной на каждый комитет, на каждый свободомыслящий кружок, или на каждую масонскую ложу; если бы, вместо того чтобы выбирать президентов, секретарей и представителей комитетов на места, которые они должны будут занять в будущей республике, они активно работали бы над народным образованием, какой прогресс был бы достигнут за тридцать лет в дневных школах для детей и в вечерних школах для взрослых.
Разве удовлетворился бы в этом случае народ, отправляя в парламент депутатов, которые принимают законы об общественных объединениях для представления монархистам?
Разве ограничился бы народ бунтами из-за растущих цен на хлеб, не бунтуя при этом против всех лишений, которым подвергается рабочий из-за обилия роскоши, окружающей тех, кто обогатился за счет чужого труда?
Разве изможденный народ бунтовал бы только против налогов, вместо того чтобы организоваться в борьбе за подавление всех тиранических привилегий?
Мое положение преподавателя испанского языка в Филотехнической ассоциации и в ложе Великого Востока Франции давало мне возможность вступать в контакт с представителями всех классов, как в смысле их собственного характера, так и в смысле социального статуса, и, знакомясь с их идеями о собственной роли в общем деле, я видел в них только людей, готовых потратить как можно большую часть своей жизни на индивидуальные цели: кто-то изучал испанский ради продвижения по служебной лестнице, кто-то для того чтобы заниматься испанской литературой в интересах собственной карьеры, кто-то для того чтобы сделать для себя более приятными путешествия по испаноязычным странам.
Никого не шокировал абсурд, правящий повсюду из-за несообразности между обыденными представлениями и научным знанием, и никого ничуть не беспокоило желание придать рациональную и справедливую форму человеческой солидарности, которую давало всем живым существам в каждом поколении приобщение к достоянию, созданному предыдущими поколениями.
Я видел, что прогресс считают чем-то вроде фатальной неизбежности, независимой от знаний и доброты людей, результатом случайностей и происшествий без участия сознательных действий и человеческой энергии. Индивид, сформировавшийся в семье с ее необузданными атавизмами, с ее традиционными ошибками, повторяющимися из поколения в поколение по незнанию матерей, и в школе, где происходит нечто худшее, чем просто ошибки — сознательная ложь, навязываемая теми, кто придумывает догмы во имя предполагаемого божественного откровения — такой индивид вступает в общество деформированным и деградированным и вследствие этого уже не может распоряжаться собой, его деятельность приносит лишь иррациональные и пагубные результаты.
Вдохновляясь идеями служения общему благу, я разговаривал с различными людьми своего круга, стараясь оценивать каждого по степени возможной пользы для моего идеала, и вскоре убедился, что среди политиков, окружавших дона Мануэля нельзя было рассчитывать ни на кого; на мой взгляд — и я прошу прощения за то, что смешиваю с общей массой достойные исключения — все это были закоснелые оппортунисты. В силу этих веских и грустных для меня обстоятельств, во мне появилась предрасположенность судить других людей. Дон Мануэль, человек высоких взглядов, но недостаточно подготовленный к образам людских несчастий, зачастую называл меня анархистом каждый раз, когда слышал, как я высказывал обоснованное мнение, как правило, радикальное, по сравнению с оппортунистическими взглядами и дешевым радикализмом осаждавших и эксплуатировавших его испанских революционеров, точно так же, как и французских республиканцев, следовавших политике, наиболее благоприятной для буржуазии, и сторонившихся всего, что могло быть полезно для обездоленного пролетариата, под тем предлогом, будто следует избегать любой утопии.
Резюмируя и конкретизируя вышесказанное: во время первых лет реставрации с Руисом Соррильей сотрудничали люди, которые позже, на министерской скамье, выказали себя самыми убежденными монархистами; а этот достойный человек, поддерживавший огонь протеста против государственного переворота 3 января 1874 года, наивный и чересчур честный, доверял своим ложным друзьям. В результате, как это часто происходит с политиками, большинство оставило республиканского вождя ради министерского портфеля или высокого места, и, в конце концов, он смог рассчитывать лишь на тех, кто не продается из чувства собственного достоинства, но чьим занятиям недостает логики, которая могла бы поднять их мысль и их энергию до уровня активных действий.
Если бы не Асенсио Вега, Себриан, Мангадо, Вильякампа и немногие другие, дон Мануэль стал бы на многие годы игрушкой в руках амбициозных спекулянтов, замаскировавшихся под патриотов.
По всем этим причинам, я ограничился воздействием на моих учеников, выбирая для экспериментов тех из них, кто казался мне наиболее подходящим и лучше всех приспособленным для этого.
С ясным пониманием собственных целей, пользуясь определенным авторитетом, который мне придавала моя позиция учителя и мой экспансивный характер, исполняя свои профессиональные обязанности, я разговаривал со своими учениками на различные темы: иногда об испанских обычаях, иногда о политике, религии, искусстве, философии, всегда стараясь исправить высказываемые ими мнения, которые могли быть преувеличенными или необоснованными, или подчеркнуть те неудобства, которые возникают, если подчиняешь собственное суждение догмам сект; школ или партий, что, к сожалению, происходит очень часто. Таким образом я добивался того, что после подобных дискуссий люди, далекие от меня по своим убеждениям, становились ближе ко мне и соглашались со мной, отбросив свои ранее неоспоримые убеждения, принятые когда-то на веру из послушания или из-за простой услужливой покорности. Благодаря этому мои друзья и ученики чувствовали себя счастливыми, что избавились от постыдной ошибки и приняли истину, обладание которой возвышает и придает достоинство.