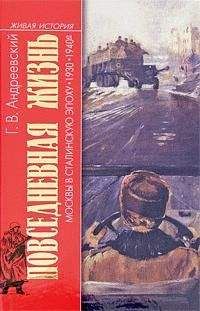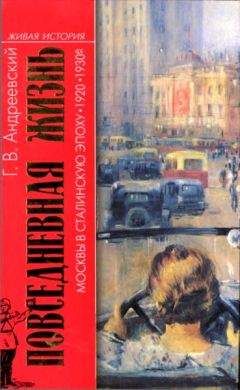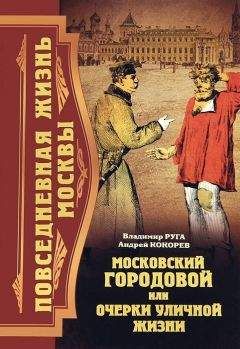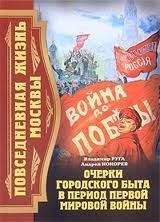Георгий Андреевский - Повседневная жизнь Москвы на рубеже XIX—XX веков
Со зрителями проблем было меньше, хотя таковые и возникали. В марте 1870 года произошла небольшая драка в кассе Большого театра. Драку затеял статский советник контроля при Министерстве двора его величества господин Кавелин. Он посчитал, что администрация театра отнеслась к нему несправедливо. А дело обстояло так статский советник пришёл в Большой театр, предъявил капельдинеру билет, и тот, как тогда было заведено, оторвал от билета уголок. После этого статский советник прошёл в ложу и просидел в ней два акта. Тут до него дошло, что он пришёл не в тот театр. Когда он обратился к кассиру с требованием забрать билет, а ему вернуть деньги, кассир, естественно, отказал и разъяснил, что билеты назад принимаются лишь в случае отмены или изменения спектакля, при замене билета на более дорогостоящий и в случае внезапной болезни или смерти посетителя, а не тогда, когда зритель вваливается не в тот театр, в который купил билет, и одумывается перед третьим актом. Смотреть надо! Господин Кавелин стерпеть такого нахальства не смог и полез в драку. Трудно сказать, чем бы закончился для нашего театрала данный инцидент, если бы его отец, К. Д. Кавелин, не был в своё время воспитателем наследника — будущего императора, Николая II. Благодаря этому дело замяли.
ЦензураПравила поведения существовали не только для зрителей, но и для самих театров. Ещё в 1876 году, в частности, было запрещено устраивать спектакли и публичные зрелища (кроме драматических представлений на иностранном языке) на Рождество, накануне воскресных дней, двунадесятых праздников, всего Великого поста и неделе Святой Пасхи.
В 1884 году театры обязали указывать в афишах фамилии авторов и переводчиков, которые значились на рассмотренных цензурой экземплярах пьес, и перечислять номера в порядке их исполнения. Всё, что шло на сцене, должно было проходить цензуру. На тексте произведения цензор ставил свою «разрешительную надпись», после чего этот экземпляр предъявлялся полиции, которая и давала актёру разрешение на выступление или театру на постановку спектакля. Полиция следила за тем, чтобы вместо дозволенных пьес не шли недозволенные и чтобы вместо цензурованного текста артисты со сцены не произносили не цензурованный. Например, когда артистка Варвара Пащенко (по сцене Шеренина), играя в пьесе «Царская невеста» Любашу, произнесла несколько вымаранных цензурой фраз о том, что ей пришлось отдаться немцу для того, чтобы он передал ей приворотное зелье, полиция приказала директору театра расторгнуть с артисткой контракт. Сам директор избежал наказания лишь благодаря тому, что смог доказать самоуправство артистки.
Цензоры действовали, конечно, не только в театрах. Картинные галереи, цирк, литература, пресса — на всё распространялась их неутомимая деятельность, и здесь не имели значения никакие авторитеты. Картина Репина «Иван Грозный и его сын Иван» пострадала и от цензуры, и от зрителей. П. А. Третьяков приобрёл её у Репина в 1882 году за 15 тысяч рублей и выставил в своей галерее. Произошёл скандал. Помимо того, что на полотне был изображён царь-убийца, картина действовала на зрителей самым плачевным образом. Некоторые падали перед ней в обморок, с иными начиналась истерика. Люди из других стран специально приезжали в Россию, чтобы увидеть её. И тогда вмешалась полиция. Она заставила владельца галереи убрать картину и дать расписку на имя московского обер-полицмейстера, что «он никогда, ни под каким видом, не будет её выставлять». Когда в 1885 году в Москве появились снимки с этой картины, то по указанию полиции они были тут же изъяты из продажи. Хорошо хоть, что картину не конфисковали и не уничтожили. Прошло время, и в 1913 году Третьяков снова её выставил. Но и на этот раз картине не повезло. Сын купца-старообрядца, некогда мебельного фабриканта, Абрам Абрамович Балашов с криком: «Не надо крови!» — бросился на картину и три раза ударил её ножом. Когда его схватили, он всё повторял: «Слишком много крови! Слишком много крови!» Балашов был психически неуравновешенным человеком. Накануне совершения преступления он ни с того ни с сего сказал своей сестре: «Катерина, мне страшно, зажги огонь!» — хотя в доме было ещё светло. Сестра его постоянно носила монашеское платье и имела страдальческое выражение лица. Незадолго до случившегося она вернулась домой из психиатрической больницы Алексеева. Несколькими годами раньше старший брат Абрама умер на Канатчиковой даче. В патриархальной семье замоскворецкого купца, видно, завелась какая-то червоточина.
Илья Ефимович Репин обвинил тогда в подстрекательстве к этому преступлению футуристов — «Бубновый валет», «Ослиный хвост»[20] и пр. Одна из газет в связи с этим напомнила великому художнику о юнкере, который застрелился, оставив записку: «Прочитал „Анну Каренину“ и убедился в том, что жить не стоит». «…Однако, — резонно отмечал автор заметки, — Льва Толстого никто в подстрекательстве к самоубийству юнкера не обвинял». В общем-то, он был прав: произведение искусства ещё не повод для убийства.
Однако цензуру надо было как-то обходить, к этому подталкивали художника не только гражданские чувства, но и вообще стремление служить великому искусству.
Для того чтобы обмануть цензуру, господа артисты и сочинители прибегали к разным приёмам. Они, например, с помощью ужимок, кивков, подмигиваний и прочих выкрутасов научились извлекать из вполне невинного текста совсем не невинное содержание. Полиция раскусила эти уловки ещё в 1878 году. В одном из своих писем московский обер-полицмейстер отмечал: «Дозволенные цензурой куплеты „Боги Олимпа в Москве“, „Говорят“ и „Куплеты аркадского принца“ заключали в себе грубые отзывы об англичанах, и в частности лорде Биконсфилде, насмешки над интендантством и Московской городской думой, однако ничего такого, что не было бы на столбцах современной прессы, в них не содержалось. В исполнении же артистов, при особых интонациях их голоса и жестах, указывающих на присутствующих, куплеты произвели на московскую публику большое впечатление, возбудив в одной части неистовые аплодисменты, а в другой — не менее сильные крики и шиканье». Естественно, что полиции не нравилось всякое «нездоровое», как говорили в наше время, реагирование публики на намёки артистов, поскольку они возбуждали антиправительственное настроение. Жизнь приучила полицию читать между строк Кроме того, полиция старалась проникнуть в психологию публики, её отдельных групп и классов. В 1887 году министр внутренних дел по этому поводу высказал такое суждение: «Драматическая цензура, рассматривая пьесы, имеет в виду более или менее образованную публику, посещающую театральные представления, но не исключительно какой-либо класс общества. По уровню своего умственного развития, по своим воззрениям и понятиям, простолюдин способен нередко истолковать в совершенно превратном смысле то, что не представляет соблазна для сколько-нибудь образованного человека, а потому пьеса, не содержащая ничего предосудительного с общей точки зрения, может оказаться для него непригодною и даже вредною, а поэтому пьесы, разрешённые цензурой, следует подвергать особому рассмотрению Главного Управления по делам печати», а проще говоря, самой полиции. Доходило до смешного, и причиной этого становилось нередко слишком широкое толкование и вольное применение закона его исполнителями. Например, в законе о печати 1873 года говорилось, в частности, о том, что министр внутренних дел имеет право, в редких случаях, «воспрещать обсуждение или оглашение в печати вопросов государственной важности». На практике же подобные запрещения стали не редкими, а частыми, и, главное, к вопросам государственной важности чины полиции стали относить всё, что приходило им в голову. В 1905 году, например, когда страна была охвачена революционным психозом, «важным» был признан вопрос о том, должны ли танцовщицы в балете брить себе волосы под мышками или нет. Было решено, что должны.
Поскольку обойти политическую цензуру было нелегко да и небезопасно, а сборы надо было делать, прибегали к разным уловкам, недалёким от тех, которые в своём «Манифесте» рекомендовал футурист Маринетти, а именно: «Адюльтер заменить массовыми сценами, пускать пьесы в обратном порядке фабулы, утилизировать для театра героизм цирка и применение техники, разливать клей на местах сидения публики, продавать билеты на одни и те же места разным лицам, рассыпать в зрительном зале и фойе чихательный порошок, устраивать инсценировки пожаров и убийств и пр.». Шли и на другой, более рискованный шаг, а именно: изготавливали фальшивые разрешения Цензурного комитета.
Сколь ни различны были подходы газетчиков, артистов и полицейских к пьесам, куплетам и афишам, однако что-то их объединяло. Узнав о каком-нибудь безобразии, не разделявшем их на два противоположных лагеря, те и другие вставали на дыбы. Так случилось, когда клоун и дрессировщик зверей Дуров сообщил в афише о выступлении «Пушкина» — русского жеребца. Ну, как тут было не возмутиться? Неужели для лошади не нашлось другого имени?! А главное: жеребец-то этот на поверку оказался не жеребцом, а рыжей кобылой! Вот как.