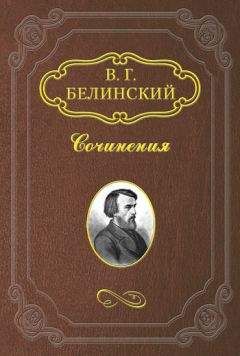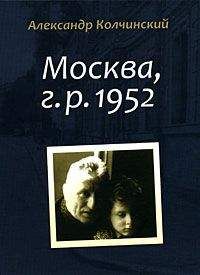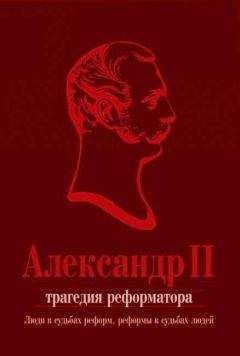Павел Гнилорыбов - Москва в эпоху реформ. От отмены крепостного права до Первой мировой войны
Слой потомственных квалифицированных рабочих составлял ничтожную часть московского пролетариата, остальные регулярно наведывались в деревню, помогали на сенокосе, уборке зерновых. Рабочий находился на распутье: из деревни вышел, а до города не дошел. Условия труда со скрипом, но улучшались: трудовое законодательство 1880-х годов запретило использовать на фабриках детей в возрасте до 12 лет, а подросткам не разрешали работать в ночное время, с 9 часов вечера до 5 часов утра.
В 1885 году на ряде предприятий была запрещена ночная работа женщин. После разгромных очерков Гиляровского общественность обращает внимание на сложные химические производства, мыльное, спичечное. На фосфорных фабриках у работников часто выпадали зубы. Городской голова Алексеев неоднократно отмечал, что из-за ужасных условий труда на фабрике московские юноши, подлежащие призыву в армию, хиреют и становятся больными.
Одновременно создается институт фабричной инспекции, надзиравший за условиями труда и соблюдением пакета новых законов. В Москве на подобной должности пять лет трудился экономист И. И. Янжул. Он вспоминает о трогательных попытках фабрикантов всунуть взятку: «Один раз, например, помнится, на Московском Даниловском сахарном заводе, я нашел, садясь, по окончании осмотра фабрики, на своего извозчика, что-то в ногах санок твердое; к моему удивлению, я нащупал целую голову сахара. Тогда я вызвал вновь, через кого-то из служителей, управляющего фабрикою из конторы, указал на эту сахарную голову и попросил ее убрать и никогда впредь этого не делать. Он решительно мне отвечал: «Я не понимаю, почему Вы, милостивый государь, отказываетесь, – это просто обычай, и тут дурного нет ничего, все везде так делают, и нам это ничего не стоит». Чтобы избежать бесполезного спора, и для интересов будущего, я ему объявил: «Я сейчас записывал у вас в конторе размер заработной платы, и записал, что вы получаете жалованья пять тысяч рублей, верно это, или нет?» – «Конечно, верно, если я вам показал это». – «А я получаю шесть тысяч рублей, – как же вы хотите, чтобы я брал взятки, за которые меня могут завтра же прогнать со службы?!» Такой аргумент его, видимо, удивил и подействовал. Он ответил: «Ну, если бы все так хорошо оплачивались, как вы, ваше превосходительство, тогда бы мы голов в экипаж не клали»[119]. Янжул немного слукавил, он сложил два своих жалованья, инспекторское и профессорское. Несколько раз экономисту пытались подсунуть банкноты, спрятанные в страницах книг. Янжул взял за правило проверять издания, попадавшие в его руки. Постепенно по губернии прошел слух, что на новой должности денег не берут, и коррупционный ручеек, так и не ставший рекой, засох. Ежели благодарность никогда не принимают, зачем предлагать? Иногда фабрикантам действительно выписывали штрафы. Так, небезызвестный Ланин поплатился целыми 100 рублями за применение труда несовершеннолетних!
Армия «сезонников», перебивавшихся случайными заработками, росла год от года и порождала биржи труда вроде Хитрова рынка. Честному человеку, который хотел кормиться результатами своего труда, в Москве приходилось трудновато. Трудовая мораль, вышедшая из крестьянской общины, вынуждала «не высовываться»: «…солидный первостепенный работник всегда возбуждает зависть или даже ненависть; про работника же тщеславного и мота, готового легкомысленно пропустить честно и с трудом заработанные деньги сквозь пальцы, лишь бы пустить пыль в глаза, люди отзываются очень хорошо: «Это добрая душа и золотые руки – через него еще ни один человек не сделался несчастным. Много он заработает в месяц или в два, закутит, всех угостит, все раздаст, ничего себе не оставит»[120].
А. Н. Энгельгардту удалось переломить настроения своих крестьян, привязать их к собственной земле. Он дал беднягам понять, что в Москве высоко взлетает отнюдь не каждый: «Теперь никто в Москву надолго не ходит. «Зачем в Москву ходить, – говорят мужики, – у нас и тут теперь Москва, работай только, не ленись! Еще больше, чем в Москве, заработаешь». Теперь, если кто из молодежи идет в Москву, то разве только на зиму, свет увидеть, людей посмотреть, пообтесаться, приодеться, на своей воле пожить». Однако подобная ситуация была скорее исключением, нежели правилом.
Рост населения усугублялся жилищным кризисом. Строительный рынок не поспевал за все новыми персонажами, прибывающими в Москву в поисках счастья и денег. Маленькая вместительность центра была обусловлена низкой этажностью застройки: дворянская Москва погибала не одно десятилетие! Некоторые дома надстраивали одним-двумя этажами. П. Д. Боборыкин пишет, что на весь город есть всего три-четыре приличных отеля, вроде «Дрездена» или «Лоскутной», но цены в них гораздо выше петербургских.
Меблированные комнаты пугали грязью, зловонием, непомерной стоимостью. Так описывают знаменитые «Челыши», стоявшие на месте возведенной позднее гостиницы «Метрополь»: «…этот приезжий люд, вот уже десятки лет, довольствуется самыми грязными комнатами, не освещенными коридорами, запахом кухни и всевозможными азиатскими неудобствами». «Челыши» запомнились и И. Ф. Горбунову: «Челышевские номера» на площади Большого театра были обыкновенным пристанищем заезжих в Москву провинциальных артистов. Удушливый, спертый воздух, полный микробов, видимых невооруженным глазом, отсутствие каких-либо удобств, грязные неосвещенные коридоры, оборванная прислуга составляли специальность этого актерского приюта»[121].
А. В. Амфитеатров, касаясь бытовой стороны своей жизни, вспоминает разудалый 1883 год: «Веселая богема собралась тою зимою на совместное житье в верхнем – пятом – этаже московских меблированных комнат Фальц-Фейна на Тверской улице. Юная, нищая, удалая, пестрая… Все гении без портфеля и звезды, чающие возгореться. Несколько студентов, уже изгнанных из храмов науки, несколько студентов, твердо уверенных и ждущих, что их не сегодня завтра выгонят; поэты, поставлявшие рифмы в «Будильник» и «Развлечение» по пятаку – стих; начинающие беллетристы, с толстыми рукописями без приюта, с мечтами о славе Тургенева и Толстого, с разговорами о тысячных гонорарах; художники-карикатуристы; консерваторский голосистый народ… Жили дарами Провидения и поневоле на коммунистических началах: на пятнадцать человек числилось три пальто теплых, семь осенних и тринадцать – чертова дюжина! – штанов»[122].
Доходных домов пока еще относительно немного, и за комфортабельным съемным жильем приходится отправляться на окраины. Вышколенная прислуга только-только появляется, господам приходится довольствоваться наскоро переученными носителями крепостной школы либо крестьянскими девками.
Бывшие дворянские хоромы можно было снять за несколько тысяч рублей в год, преимущества выражались в наличии огромного участка, фактически дачи в самом центре города, а неудобства – в отвратительном ремонте и отсутствии удобств. Рабочие перебивались каморками или же кроватями. Пролетарии довольствовались в жилищной сфере статусом «коечников». Беспросветное существование в казармах много раз описывалось дореволюционными авторами.
Д. И. Никифоров возмущался: «Было ли мыслимо в прежнее дореформенное время, чтобы общество всецело увлекалось такими произведениями, как описание жизни различных трущоб: Максима Горького, Андреева и их последователей, где грязь жизни проповедуется, как идеал!» Самые прогрессивные предприниматели старались исправить положение, но их усилия были каплей в море неустроенного быта. Урбанизация пришла в Москву слишком быстро и неожиданно. Перестраивалось все: городской быт, общественные отношения, жилищная сфера.
Городское благоустройство также не могло угнаться за резким ростом населения. Из бульваров пользовались популярностью Пречистенский и Тверской; на остальных ночевали бродяги, карманники и бездомные собаки. В Чистых прудах вода отчаянно «цвела» каждый сезон, и зеленевшая масса распространяла исключительно зловоние.
Александровский сад находится в запустении, знаменитый грот был исписан нецензурной бранью. Летом московские улицы атаковала пыль. О, всепроникающая пыль Первопрестольной! От тебя бежали в тенистую гущу Сокольников, Нескучного сада, Петровского парка, на ближние и дальние дачи, ты сковывала дыхание и заставляла чихать без перерыва.
Советские путеводители с гордостью рапортовали, что до революции в Москве было всего лишь 34 сквера с общей площадью зеленых насаждений около 2000 гектаров, в то время как 1960 год Москва встречала, имея в наличии 7200 га природных «легких»[123]. Грязь, неразбериха, сумбур, антисанитария были постоянными спутниками торговли. «Довольно любопытно, что в Москве квас и ветчину должно искать в сундучном ряду, шахматы в лапотном, перья в косметическом магазине, рукописи в кожевенном ряду», – писал В. Ф. Одоевский. Жители ахали, заглядывая за парадный фасад Охотного Ряда и Верхних торговых рядов. Сравнение с бухарскими и самаркандскими рынками не шли Москве на пользу. «Все жалуются, все кричат или, по крайней мере, те, кто желал бы видеть хоть несколько менее татарское хозяйство… Стали мостить и так, и этак, пробовать и асфальт, и торцовую мостовую, и какие-то кирпичики; всаживали деньги в болотистые местности, подновляли и подновляют бульвары; выписывали из-за границы даже деревья для бульваров. Кое-что и сделано, но в общем все хромает; мостовые почти везде плохие, осенью и весной вас немилосердно толкает на санях и дрожках: ухабы, колеи, горы несчищенного снегу и льду, потоки грязи – все как и прежде».