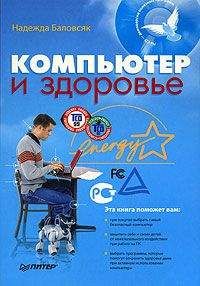Герхард Менцель - Годы в Вольфенбюттеле. Жизнь Жан-Поля Фридриха Рихтера
Еще не оправившись от этого удара, он получил известие о смерти матери. Оно заставило его погрузиться в воспоминания о далеком прошлом. Обстоятельства опять не позволили ему лично поехать в Каменц, ибо последние пфальцские дукаты он был вынужден срочно отослать сестре.
В тот день ранней весной 1777 года в доме Лессингов уже с самого утра шли какие-то тайные приготовления. Когда Ева открыла дверь спальни, ее встретил веселым смехом выстроенный полукругом хор, составленный из Готхольда и детей. Лессинг сделал едва приметный знак рукой, и дети стройно произнесли:
— Мы поздравляем любимую маму с днем рождения! Тысячу раз и от всего сердца!
Затем отец снова подал знак, и чистые голоса запели старинную студенческую песню «Gaudeamus igitur» в быстром, живом ритме.
— О, латынь! — воскликнула Ева, когда хор умолк.
— «Gaudeamus igitur» по-немецки означает «Итак, будем веселиться!» — с готовностью пояснил Лессинг.
— Ну вот и первые плоды твоих уроков латыни, — признательно сказала Лессингу Ева.
— Просто стихи запоминаются легче всего, — возразил он.
— Однако, — Ева улыбнулась и обвела взглядом детей, — пение — само по себе искусство!
— Об этом мы вовсе и не помышляем, — возразил Лессинг, как обычно, шутливо. — Люди говорят: где начинается искусство, забава кончается. Но мы-то поем не ради искусства, а ради забавы или, лучше сказать, ради веселья и удовольствия нашей дорогой мамы. А об искусстве, настоящем нелегком искусстве, мы здесь сегодня уж точно не помышляем.
— Я пел так громко, чтобы тебе было меня лучше слышно, — воскликнул усердный Фрицхен.
— И тебе это удалось. Мне всех вас было слышно прекрасно.
После этого дети принесли свои подарки. Мальхен спекла большой сладкий пирог, Энгельберт купил у разносчика булавки и цветные ленты. А Фриц непременно хотел подарить маме свою деревянную лошадку, на палочке, которую отец принес ему с одной из распродаж.
Ева обняла и расцеловала всех троих. А потом сказала Готхольду, что она так благодарна, — нет, она теперь просто счастлива!
После завтрака пришел Эшенбург со своей молодой женой. Эшенбург давно, уже не один год, слыл зятем профессора Шмида, но лишь недавно, после того, как получил место, смог жениться.
Эшенбург, которого Лессинг видел чаще всех остальных брауншвейгских друзей, был заядлым спорщиком. Молодой профессор уже пользовался известностью как переводчик Шекспира, а посему мудрость шекспировского шута обсуждалась за чайным столом до тех пор, пока большой сладкий пирог не был доеден до конца.
— А теперь давайте покатаемся верхом! — предложил Лессинг. — Можно мне оседлать твою лошадь?
И, не дожидаясь ответа, схватил деревянную лошадку и устремился с нею за дверь. Оба мальчика ринулись следом. Вокруг дома началась бешеная погоня. Отец скакал на деревянной лошадке, а Фриц и Энгельберт пытались его поймать. Это была одна из их любимых игр.
Ева стояла у окна и смеялась. Лессинг скакал изо всех сил. Но вскоре шумная ватага, к которой присоединилась и Мальхен, настигла-таки его. Вот это была забава! Настоящая, чудесная забава!
Новое благодеяние принесло новые заботы. Его светлость, которого, видимо, насторожило чужое внимание к его библиотекарю, вскоре после возвращения Лессинга из Мангейма пожаловал ему для постоянного житья домик попросторнее. То был расположенный неподалеку от библиотеки так называемый дом Шеффера: одноэтажный центральный корпус с выступающими боковыми крыльями и широкой четырехскатной крышей. Уже в его скромных размерах явственно проглядывала гармония барочной архитектуры. Тут были комнаты в три окна, тихий кабинет с чарующим видом на лужайку позади дома и маленький внутренний дворик с изящными елями справа и слева от дорожки. Усадьбу окружала стена в человеческий рост с широкими воротами.
То, что Лессинг, не терпевший беспорядка, все лето и всю осень жил, как он сам в шутку говорил, сразу в трех местах, было бы для него до свадьбы источником постоянного раздражения. Теперь же он только посмеивался над всеми возможными неприятностями и был бодр, как никогда.
Семья продолжала жить в доме Бёрнера, а Лессинг по-прежнему держал свои книги и рукописи еще и в мансарде старого замка — до тех пор, пока в более просторной усадьбе Шеффера не побелили стены, не навели порядок и не прибили венские драпировки Евы. Это заняло почти целый год, ибо Еве следовало беречься. Лессинг всячески заботился о своей дорогой жене, так как узнал радостную новость. У них должен был родиться ребенок.
При мысли об этом Лессинг делался озорным, как мальчишка. Когда берлинский друг Лессинга Николаи обратился к нему за текстами для своего альманаха народных песен, Лессинг напомнил ему дерзкую, многоязычную шуточную песню:
Ты пробовал когда-нибудь
Под юбку к Лизхен заглянуть?..
Правда, французскую и итальянскую строфы он припомнить не смог, однако в шутливой форме дал Николаи понять, как позабавила его эта песня: — «Прошу не забывать, что английскую строфу я сочинил сам — так что не думайте, будто вы и Шлоссер — единственные немцы, сочинявшие стихи на английском языке!»
Дальнейший поиск текстов такого рода доставил ему изрядное удовольствие. Были опрошены все друзья, и спустя несколько недель Лессинг снова послал ожидавшему с нетерпением Николаи на выбор для его коллекции первые строфы грубовато-шутливых песен:
«Наш батрак служанку нашу
Затащил на сеновал…»
Или же:
«В постель нейдет невеста, талдычит всякий раз:
— Такого уговора ведь не было у нас…»
Были тут и забавные прибаутки-бессмыслицы, иначе говоря, шуточные песни, созданные, очевидно, по образу известной «Дело было в январе, пятого апреля».
Лессинг писал Николаи:
Я б легко мог с монахами встать в один ряд:
Они бедны, и я не богат;
Не пьют они мясо, не ем я вино:
Разве может быть большее сходство дано?
И все же я разницу вижу одну:
Когда они встают, я отхожу ко сну.
Однако Лессинг отобрал и некоторые тексты, исполненные глубокого смысла и так точно отвечавшие его собственным тайным опасениям, словно он не нашел эти стихи, а сам их сочинил.
Я нынче плохо день провел.
Еще не в силах я понять:
Тот край, где довелось бывать,
Мне больше не видать, не видать…
Господин Мозес, которому Николаи дал прочитать письмо, первым заметил странные, как ему показалось, колебания настроения Лессинга от безудержного веселья до мрачной озабоченности и связал это с выходом в свет четвертого тома вольфенбюттельских «Материалов». Четвертый номер «Материалов» содержал значительную часть из «Фрагментов безымянного», и больше ничего.
— Создается впечатление, — сказал господин Мозес берлинскому книгоиздателю Николаи, — будто наш друг приложил все силы к тому, чтобы бросить вызов ортодоксальной теологии. Тот, кто хорошо его знает, может предположить, что Лессингу пришлось слишком поспешно сдавать в печать этот четвертый том «Материалов», ибо он снова нуждался в деньгах. На самом же деле ему сейчас куда ближе шуточки о Лизхен, которой норовили заглянуть под юбку, и о невесте, что отказывалась лечь в постель. Мне, собственно говоря, уже давно следовало бы его навестить, ибо молчание, которое хранит ортодоксия, напоминает затишье перед бурей.
И даже сам Лессинг пока еще не представлял себе истинное положение дел.
Когда брат Карл сообщил ему кое-что об опасениях берлинских друзей, Готхольд ему ответил: «То, что о „Фрагментах“ моего „безымянного“ теологи помалкивают, лишь укрепляет меня в том добром мнении, какого я всегда придерживался в отношении них. Соблюдая необходимую осторожность, о них можно писать все, что вздумается. Их выводит из себя не то, чего их лишают, а то, что им взамен этого норовят навязать, и тут они правы. Ибо, если уж миру суждено стоять на лжи, то старая, давно привычная ложь годится для этого ничуть не меньше, чем новая.»
Долгожданный визит Мендельсона в Вольфенбюттель все откладывался, вплоть до самого последнего предрождественского воскресенья. Когда же господин Мозес, улыбаясь, переступил наконец порог их дома, это застало всех врасплох — и до рождественских праздников, и до родов оставались считанные дни.
Лессинги давно привыкли к посетителям. Нередко в городе появлялся какой-нибудь заезжий магистр, желавший воспользоваться библиотекой. Однажды в числе гостей оказался художник по фамилии Тышбейн, втянувший Лессинга и его отменно образованную жену в нескончаемые искусствоведческие споры. Когда зашла речь о Винкельмане, Лессинг сказал: