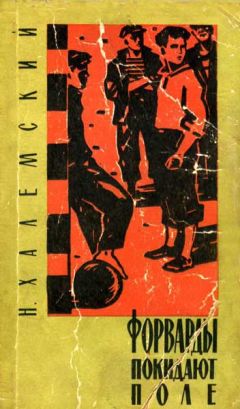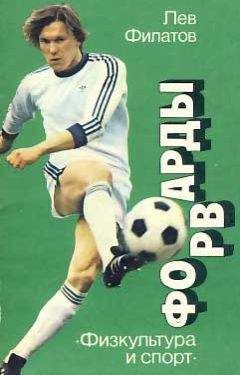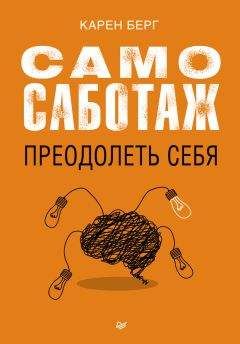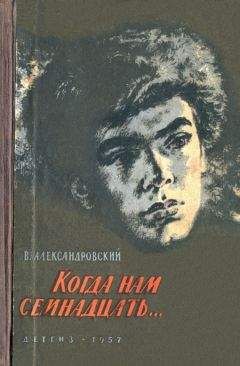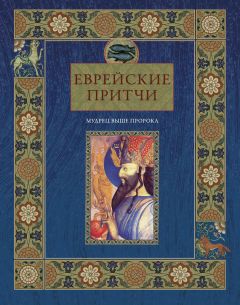Наум Халемский - Форварды покидают поле
— Прочь! — кричу я и замахиваюсь рукой, точно могу поразить смерть ударом. Она всегда избирает своей жертвой слабого. Смерть неумолимо приближается к отцу, и помочь ему никто даже не пытается.
Звать на помощь? Кричать, чтобы старик не сдавался? Он должен найти в себе силы победить смерть — ради всех нас, ради мамы, которую он называл королевой и считал самой красивой на земле. Нет, кричать нельзя — я ведь дал слово Тоидзе.
— Сынку, напои батька, — слышу тихий голос няни. Она протягивает белый поильник. Чуть приподнимаю голову отца, осторожно вливаю ему в рот немного остывшего чаю, но чай выливается на грудь. Вытираю его полотенцем. Няня уходит. Сажусь на табурет и поглаживаю холодную руку.
Вдруг я ощущаю шевеление его пальцев. Говорить он не может, но пальцами гладит мою ладонь. Значит, простил меня. О, старик, родной, милый, кто еще так знает твою доброту, твое отходчивое сердце, твою любовь ко мне! Я склоняюсь над ним и целую липкий от холодного нота лоб. Угасающие глаза следят за каждым моим движением. Что это он говорит? Прикладываю ухо к его губам и вдруг чувствую, как он целует меня. Неужели прощается со мной? Охватывает леденящий душу страх. Я тихо плачу и целую его руку, по которой можно написать повесть трудовой жизни. Эти руки всегда пилили или строгали, клепали или точили. В часы отдыха отец брал гитару и, аккомпанируя себе, насвистывал печальные песни и старинные романсы. Он и меня научил немного бренчать.
Я не почувствовал, как пальцы отца разжались, не услышал шагов дежурного врача, вошедшего в палату. Доктор считал пульс у больного. Появилась сестра, сделала отцу укол, которого он, казалось, и не ощутил.
— Доктор, — набравшись смелости, спросил я, — скажите, отец будет жить?
Глядя в сторону, врач развел руками:
— Перитонит. Надежды мало. Советую вам, молодой человек, отправиться домой.
Все ушли, в палате снова стало тихо. Время от времени заглядывала дежурная сестра или няня. Отец то впадал в забытье, то приходил в себя и глядел на меня упорно, со страшной тоской, как бы говоря:
«Ну вот, Вовка, пришло время нам расстаться. Тяготился ты моими нравоучениями, тайком совершал всякие недостойные поступки: дрался, играл в карты, курил… Как же теперь? Отныне ты сам судья своих поступков, своей совести, кто остановит тебя перед неверным шагом?»
Никогда я не считал себя таким виноватым, как сейчас. Хотелось броситься ему на грудь и молить о прощении, но я сдержался усилием воли. Кажется, он уснул. Я тихо поднялся и приоткрыл окно. Город грохотал вдали, ветер свистел в кронах лип, косой дождь бился о карниз.
Дождь лил, пожалуй, с такой же силой, как в ту ночь на Днепре. Вода стала заливать подоконник, я вернулся к окну, чтобы закрыть его, и вдруг услыхал тяжелое прерывистое дыхание. В следующее мгновение чья-то рука ухватилась за карниз, показался знакомый ежик Саньки. Пыхтя и отдуваясь, он подтянулся и стал на подоконник коленями. Спуститься в палату он не мог — с него потоками стекала вода.
— Ты спятил, Санька, — прошептал я. — Взобраться на третий этаж в такой ливень!
Он виновато развел руками:
— Дядя Андрей хотел послать Степку, но ведь Точильщик неповоротлив, как медведь, еще сорвался бы… Говори, что с батей?
Спазмы сдавили горло, слезы невольно полились из глаз.
— Не плачь, вот увидишь — он еще будет играть на гитаре.
Голос его дрожал, но слова прозвучали с такой искренней убежденностью, что я на миг поверил в чудо. Санька вытирал рукавом мокрое от дождя и слез лицо.
— Температура какая? Что сказать маме, дяде Андрею?
— Успокой их, он спит. Но как ты спустишься?
— Степка нашел в саду лестницу и держит ее внизу, мне по карнизу только чуть-чуть спуститься.
Саня полез в карман намокших штанов, вытянул аккуратный пакетик:
— На, поешь.
— Мне на жратву глядеть тошно.
— Говорю — ешь! — тоном приказа произнес он и сунул мне в руку пакет.
Он взглянул на кровать и снова заплакал, но не всхлипывал, а только шмыгал носом.
Я захлопнул окно и возвратился к постели больного. Кажется, спит. Усталость подобралась и ко мне. Прикрыв газетой абажур настольной лампы, я присел на низенькую скамейку у тумбочки, облокотился на край кровати, но не спускал глаз с отца. Тяжелое предчувствие камнем давило грудь, и, может быть, впервые за всю свою жизнь я попытался заглянуть в самую сущность происходящего. Немногоречивый, тихий человек, с детства питавший отвращение к праздности, безделью и покою, лежит теперь недвижимый и равнодушный ко всему земному. Десятилетним мальчишкой переступил отец фабричный порог, и с тех пор изо дня в день минута в минуту появлялся у верстака и работал с веселой гордостью человека, радующегося своему умению преображать холодный металл. А ведь нередко он стоял у верстака голодным — мало ли пронеслось военных и неурожайных лет! Но ничто не поколебало его любви к жизни, не породило в нем безразличия и усталости, всех он заражал своей бодростью.
Нужда, вечный труд, огорчения — все преодолевал он стойко, улыбаясь невзгодам и вопреки всему считая себя счастливым. Нередко говорил он маме: «Слава богу, нам жаловаться не на что». Однажды мы наблюдали с балкона, как отец Славки Коржа, владелец большого магазина и трехэтажного дома, садился в извозчичью пролетку па рессорах, запряженную великолепным рысаком. Одевался господин Корж с шиком, манеры барственные — аристократ, да и только!
— Вот счастливый — денег у него куры не клюют, — вырвалось у меня.
Отец смерил меня взглядом.
— Разве в деньгах счастье, чурбан ты этакий!
— А в чем же? — искренне удивился я.
— Счастье, когда дела твои облегчают и украшают людям жизнь. Настоящее богатство — не деньги. Верит человек в себя, в свои способности, работу свою любит и делает ее хорошо — ему и живется радостно. Господин Корж богат, а ходит мрачнее тучи, на людей не глядит, озабочен налогами, жадность терзает его. В доме у них иконы, а поклоняются они деньгам, в семье все друг друга ненавидят, грызутся. Его дочь удавилась, жена отравиться пыталась. Какое уж тут счастье! У меня вот нет ничего: ни сада, ни дома, ни магазина — гол как сокол, а с Коржом не поменяюсь.
Так размышляя, я задремал. Безбрежное море билось у берегов. Вода почему-то не синяя, не бирюзовая и не зеленая, а белая, как молоко. На всем этом молочном просторе до самого горизонта пустынно-пустынно. Затем небо стало утрачивать свою голубизну и налилось густой чернотой, горизонт заволокло густой сизой пеленой. И тогда из морских глубин на гребни вдруг зарокотавших волн выбросило катер. Его швыряло из стороны в сторону, он то скрывался в черной бездне, то снова поднимался на поверхность. Вот огромный вал несет катер на скалы, и среди мечущихся на палубе людей я узнаю отца. Кто его спасет? Нельзя стоять и ждать чуда. Отмеряя руками саженки, я смело плыву наперерез волнам. И странно — они легко покоряются мне, но чем быстрее я плыву, тем больше удаляюсь от катера. И берег уже недоступен, волны закрыли его от меня. Но я не сдаюсь и продолжаю плыть вперед и вперед, превозмогая усталость. Наконец, катер совсем близко, еще несколько взмахов, еще одно усилие — и я буду спасен. Впрочем, ведь я спасаю не себя, а отца… С трудом хватаюсь за поручни. До чего они холодны! От их леденящего прикосновения я мгновенно проснулся. В палате стоит гнетущая тишина. В моей ладони лежит холодная, безжизненная рука отца.
— Папа, папа!
И вдруг я увидел остекленелые глаза. На мой крик сбежались сестры, санитарки, появился и дежурный врач.
— Все кончено, — просто сказал он.
Не помня себя, я бросился вниз. Первой увидела меня мама. Никогда еще я так не рыдал. Она все поняла без слов. Прижала меня к себе и все время повторяла:
— Горе мое… Горе мое…
Часть вторая
Керзон меняет курс
От тишины в нашем доме можно рехнуться. Все молчат, а если и разговаривают, так только шепотом. Даже малышка притихла, будто понимает, в чем дело. Иногда мне хочется знать, о чем думает каждый человек, которого я встречаю. Но, пожалуй, это легче, чем определить, смыслит ли что-либо Паша. А вдруг и вправду крошка страдает, как взрослая, только сказать не может? Иногда я начинаю верить в это, особенно когда она ни с того ни с сего бубнит: «Па…па…па…па…».
Вот еще пигалица! Вконец расстраивает мать. Та сразу же начинает плакать. Собственно, она не плачет, то есть не всхлипывает и не причитает. Мама точно каменная: лицо холодное, глаза, зажатые в сеть морщин, потускнели. Но слезы текут, как весной ручьи с Черепановой горы, а она продолжает заниматься своими делами: чистит картошку, перебирает горох или моет фасоль. Мне кажется, будто вся нища в доме приправлена ее слезами. Кусок не идет в горло. К тому же на меня навалилась уйма дел: дров наколоть, сходить за керосином, купить хлеба, убрать квартиру, присмотреть за Пашей. Но от подачек Куца я решительно отказался. И как я мог скрывать от отца всю эту историю с подачками лавочника! Мы очень нуждаемся, но старик теперь похвалил бы меня за гордость. Живем мы на Толину зарплату, ртов у нас — слава богу, хватит. Что будет осенью, когда Анатолий уйдет в Красную Армию?