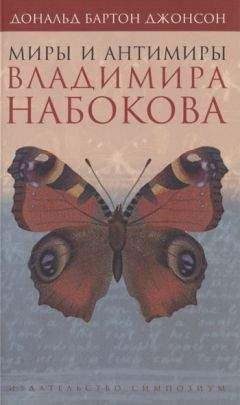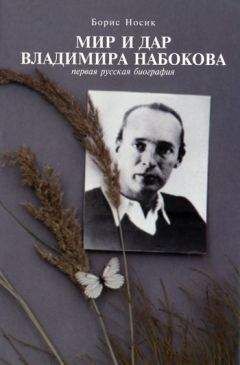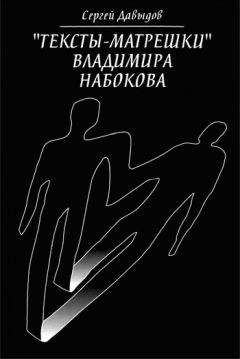Нора Букс - Эшафот в хрустальном дворце: О русских романах В. Набокова
Перед казнью Цинцинната заместитель управляющего городом сообщает публике, что «вечером идет с громадным успехом злободневности опера-фарс „Сократись, Сократик“» (с. 215). Название оперы обыгрывает отчество жены Чернышевского, Ольги Сократовны, а также пародирует «манеру логических рассуждений Чернышевского „в духе тезки его тестя“ (с. 318); Сократ в данном случае упоминается как философ, в лице которого, по определению Ф. Ницше, воплотилась „несокрушимая вера, что мышление, руководимое законом причинности, может проникнуть в бездны бытия и что это мышление не только может познать бытие, но даже исправить его“[209]. Известна также дурная репутация жены Сократа. Гибель Сократа, Чернышевского, Цинцинната за идеи образует в контексте двух романов общий пародийный ряд.
Параллелизм образов Цинцинната и Чернышевского отражен и в их тюремном костюме: Цинциннат одет в „черный халатик […] философская ермолка на макушке…“ (с. 123). Чернышевский сидел „в байковом халате, в картузе, — собственный головной убор разрешался, если это только не был цилиндр…“ (с. 304). В романе „Отчаяние“, опубликованном в 1934 году, этот головной убор атрибутируется палачу: „…рослый палач в цилиндре…“ (Набоков В. Отчаяние. Анн Арбор: Ардис, 1978. С. 98). В последнем, написанном по-английски романе Набокова „Посмотри на Арлекинов“ (1974), переводящем в пародию произведения писателя, „Приглашение на казнь“ фигурирует под названием „Красный цилиндр“. Образ взят из текста „Приглашения…“, из главы 1: судья говорит осужденному Цинциннату: „С любезного разрешения публики, вам наденут красный цилиндр“, — выработанная законом подставная фраза, истинное значение коей знал всякий школьник» (с. 35). Иначе говоря, жертве надевают головной убор палача.
Черты утопического мира из романа Чернышевского «Что делать?» реализуются в романном пространстве «Приглашения на казнь». Так, картина города, пейзаж повторяют картину «Новой России» из четвертого сна Веры Павловны. Тамарины Сады, о которых говорит Цинциннат: «Покуда в тех садах будут дубы…» (с. 73), — пародийное отражение утопических садов, «где растут дуб и липа…» («Что делать?», с. 164). Эта смесь, объясняемая плохим знанием Чернышевским природы, в романе «Приглашение на казнь» выстраивается в самостоятельный разоблачительный мотив: сады в сознании Цинцинната постепенно трансформируются в леса, а садовники в охотников, что придает, казалось бы, невинной утопической мечте опасный и агрессивный смысл. Так, в последних главах романа палач, м-сье Пьер, появляется перед Цинциннатом в костюме охотника, «…вошел […] м-сье Пьер в своем охотничьем гороховом костюмчике» (с. 202). Аналогичный смысл заключается в пародийном воспроизведении «хрустального дома» с «белыми колоннами» и «южными деревьями», где обедают счастливые люди будущего в четвертом сне Веры Павловны (с. 165–166), в образе дома заместителя управляющего городом — белой виллы с «театрально освещенным подъездом, с белесыми колоннами […] лаврами в кадках» (с. 178), где устраивают торжественный ужин перед казнью.
Сопоставление текстов убеждает, что многое в мире Цинцинната создано по рецепту, изобретенному Чернышевским. Например, роман о дубе, идея которого «считалась вершиной современного мышления» (с. 125) и который состоит из трех тысяч страниц, — пародийный образец литературы, ценившейся Чернышевским.
«Чернышевский полагал, что ценность произведения есть понятие не качества, а количества, и что если бы кто-нибудь захотел в каком-нибудь […] романе с вниманием ловить все проблески наблюдательности, он собрал бы довольно много строк, которые по достоинству ничем не отличаются от строк, из которых составляются страницы произведений, восхищающих нас».
(с. 268)Воплощением этой идеи кажется описание романа «Quercus» в «Приглашении на казнь».
«Пользуясь постепенным развитием дерева […] автор чередой разворачивал все те исторические события […] коих дуб мог быть свидетелем […] Приходили и уходили различные образы жизни […] Естественные же промежутки бездействия заполнялись учеными описаниями самого дуба с точки зрения дендрологии, орнитологии, колеоптерологии, мифологии — или описаниями популярными, с участием народного юмора».
(с. 125–126)Не случаен и выбор пародийного романного героя — дерева. Приводя в Жизнеописании цитату из труда Чернышевского, где доказательство превосходства природы над искусством строится на примере дерева, автор замечает: «Во всем этом диком вздоре есть еще свой частный смешной завиток: постоянное у „материалистов“ апеллирование к дереву особенно забавно тем, что все они плохо знают природу, в частности деревья» (с. 273).
Изложенные выше наблюдения приводят к выводу, что роман «Приглашение на казнь» представляет собой пародийно реализованную утопию, изображенную в романе «Что делать?», в которой главный герой, философ-«идеалист», является пародийным отражением самого Чернышевского. Выдуманность, искусственность быта, населенного «призраками, оборотнями, пародиями» (с. 51), прочитывается в этом варианте буквально.
Но в обществе, где царит разумность вещественности, где благо выводится из производительности, Цинциннат, с его богатым духовным миром, становится преступником, «узником», «мучеником». Упрек в бесполезности его существования делает Цинциннату Родион, тюремщик: «Вы бы лучше научились, как другие, вязать […] и связали бы мне фаршик» (с. 143). Оговорка шарфик/фаршик обыгрывает навязчивый вопрос Цинцинната о палаче, «рубщике». Замечание Родиона — сколок с убеждения Чернышевского, «что выпрясть пфунт шерсти полезнее, чем написать том стихоф», как выражается педагог Кампе в «Даре» (с. 268).
Драматическая судьба Цинцинната, повторяющая судьбу Чернышевского, но в условиях изобретенного им идеального общества, вскрывает роковой изъян идеи, а на структурном уровне обеспечивает сюжетную органичность диптиха, состоящего из двух набоковских романов. Важную роль в романе «Приглашение на казнь» исполняет аллюзия на Евангелие, которая, в свою очередь, тесно связывает его с «Жизнью Чернышевского». Так, Чернышевский видит себя вторым Спасителем:
«Христос умер за человечество, ибо любил человечество, которое я тоже люблю, за которое умру тоже, — размышляет он. — […] Христу следовало сперва каждого обуть и увенчать цветами, а уж потом проповедовать нравственность. Христос второй прежде всего покончите нуждой вещественной […] И странно сказать, но… что-то сбылось, — да, что-то как будто сбылось».
(с. 242)Вслед за Чернышевским идею эту подхватывают современники и мемуаристы, размечавшие «евангельскими вехами его тернистый путь» (с. 242).
В «Приглашении на казнь» библейская аллюзия воспроизводится вторично, как непосредственное пародийное отражение мотива «Жизни Чернышевского». Цинциннат, в отличие от пародируемого героя, не видит в своей жизни мессианского значения. Параллелизм выстраивается путем биографических совпадений и намеков, относящихся непосредственно к евангельскому образу[210].
Мать Цинцинната зачала «его ночью на Прудах (усеченное название реального района Москвы „Чистые пруды“ подкрепляет пародийность ситуации. — Н. Б.), когда была совсем девочкой» (с. 210). Юность служит фальшивым синонимом непорочности. Во время свидания с Цецилией Ц. герой делает попытку догадаться, кто был этот «безвестный прохожий» (с. 36), его отец: «… я думаю мы его сделаем странником […] или загулявшим ремесленником, плотником». […] «Ах, Цинциннат, он — тоже», — отвечает мать (с. 134). Отец Чернышевского — «добрейший протоиерей, не чуждый садовничеству» (с. 239). В контексте отождествления рая с садом, которое реализуется во второй части романного диптиха, пародийное сходство приобретает отчетливые черты.
Уже отмечавшееся выше учительство Цинцинната и Чернышевского также понимается как сквозной отсыл к евангельскому сюжету. Оба героя попадают в крепость в тридцатилетием возрасте. Цитирую из Жизнеописания: «Страсти Чернышевского начались, когда он достиг Христова возраста» (с. 242). Осужденный на казнь Цинциннат заявляет: «Я тридцать лет прожил среди плотных на ощупь привидений […] но теперь, когда я попался, мне с вами стесняться нечего» (с. 77).
В «Приглашении на казнь» немало скрытых аллюзий на сакральный образ. Например, «тюремщик Родион принес [Цинциннату. — Н. Б.] в круглой корзиночке, выложенной виноградными листьями, дюжину палевых слив, — подарок супруги директора» (с. 45). Сливы, фрукты как напоминание об утраченном рае — первый слой аллюзии. Образ этот пародийно воспроизводится в романе многократно. Так, брат Марфиньки приносит «подарок зятю — вазу с ярко сделанными из воска фруктами» (с. 107). Второй слой аллюзии раскрывается в закамуфлированной цитате из Лескова, приводимой в «Даре» в качестве образца писательского зрения: «Галилейский призрак, прохладный и тихий, в длинной одежде цвета зреющей сливы» (с. 83).