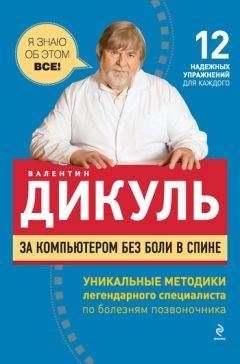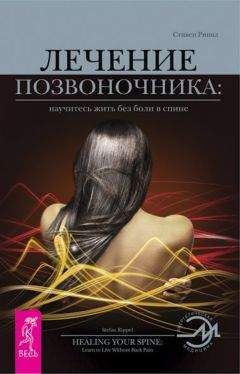Евгений Добренко - История русской литературной критики
«Неприемлемые идеи» русской классики и их присутствие в современной литературе доставили немало хлопот перевальцам, когда они от теории и формулировок литературной стратегии перешли к написанию портретов современных писателей — сквозь призму субъективности, интуитивности, «органичности» образа и творческой эволюции. Наиболее просто оказалось с «внеоктябрьским» Е. Замятиным, чей творческий путь задавался под знаменем «утраты» писателем контакта с действительностью. Отсюда и получилось, по Воронскому, что Замятин — «рационалист», почти как писатели-напостовцы, только он пишет «художественные памфлеты», а те — агитки. Воронского-критика, естественно, не устраивает роман «Мы», потому что это клевета на коммунизм, а формальные достоинства романа («С художественной стороны роман прекрасен») в еще большей степени увеличивают его вредоносность, ибо дарование «пошло на служение злому делу» (136). Однако и в творческом пути писателей-попутчиков, которых поддерживали перевальцы и которые не утратили контакта с действительностью, содержание и форма не пребывали, как у классиков, в гармонии; современная литература типизировала явления действительности не вполне идеологически правильно. Таким, к примеру, оказался путь Вс. Иванова (с его именем в 1922 году Воронский связывал главные надежды советской литературы) к книге «Тайное тайных» (1926) — лучшей книге писателя. При этом, по Воронскому, «Тайное тайных» «не только отрадная, но и печальная книга», ибо Иванов подошел «к „вечным“, к „проклятым“ вопросам […] и не знает, „как сочетать личное с общественным“» (118–119). Полонский напишет об эволюции Вс. Иванова еще жестче: Вс. Иванов показывает не только «реакционных людей» — «суть в том, что он показывает их „реакционно“! Не только герои его сделались носителями упадочнической философии, она овладела сознанием самого автора»[303]. Подобные же упреки прозвучат в адрес Леонова, Бабеля, А. Толстого, Есенина, Клычкова…
Погружаясь в сферу проблематики художественного познания, критики-перевальцы вышли к вопросам художественной интуиции, сферы бессознательного и самым современным теориям психологизма. Как и власть, критики-марксисты не скрывали утилитарного характера своего интереса к Фрейду; сожалели, что сам великий психиатр придерживался традиционного отношения к религии; считали «участников классовой борьбы пролетариата» его последователями, которые смогут «выковать из теории Фрейда новое оружие для борьбы с общественным неврозом религии»[304]. Фрейд был призван стать спутником в борьбе за новый быт — новое понимание семьи, рода, любви, этики, эстетики, вообще человека; превратиться в оружие в атаке все на ту же мистическую «душу» человека[305]. Вопросы психоанализа и советской культуры широко обсуждались на страницах «Красной нови» и «Печати и революции». Воронский посвятит фрейдовской теории снов-видений большую статью «Фрейдизм и искусство» (1925). Безусловная заслуга учения Фрейда, считал Воронский, — изучение душевной жизни отдельного человека; в увлечении же психоанализом в современной советской литературе критик видел естественную реакцию на рациональные и утилитарные концепции искусства, а зараженность «идеалистическим» фрейдизмом у пролетарских критиков из Коммунистической академии объяснял слабым знанием марксизма, русской и европейской литературы XIX века.
Если, по мнению фрейдистов, к Толстому и Достоевскому необходимо применять психоанализ, то, с другой стороны, Толстой и Достоевский сами пользовались психоанализом. Своеобразный психоанализ в искусстве применялся давно до Фрейда. Художники разоблачали и себя, и своих героев. Но их свидетельства далеко не совпадают с учением Фрейда. Несмотря на колоссальную силу интуиции, ни Толстой, ни Достоевский не нашли, что в человеческой психике господствуют, по существу, психопатологические сексуальные чувства (Эдипов комплекс), или что бессознательные намерения, антиобщественные по своему содержанию, покрывают все поле нашего сознания и руководят нашими поступками (385).
Тот факт, что это был век девятнадцатый, в котором противоречия сознания («Я») и коллективного бессознательного («Оно») разрешались внутри парадигмы религиозного сознания, Воронский предпочитает, как и в обосновании лозунга «учебы» у русских классиков, вовсе не замечать: сознание художника не может быть рабом бессознательного, ибо сознание не только в науке, но и в «интимном» искусстве связано как с бессознательным, так и с действительностью, средой и ими определяется.
И даже оскопив русскую классику, критики-перевальцы на вопрос, за кем идти советскому писателю в познании человека и современности (за психоанализом или психологизмом Толстого и Достоевского), отвечали: за классикой. Там — любовь к человеку, жизнь и художественный образ. Так, Горбов бытовой натурализм и внимание к «задворкам» и «отбросам быта», «эстетику грязного и отвратительного» в современной прозе считал следствием падения классического «искусства внутреннего подхода к теме», предполагающим наличие двух традиционных для культуры парадигм: «культа художественного слова» и «любовной пристальности» к деталям и мелочам психологии и быта[306]. В остатке получалось, что «интуитивисты» приходили почти к тому же выводу, что и их оппоненты «рационалисты», с небольшой лишь поправкой на некую европейскую культуру, которая не позволит свалиться в яму бессознательного:
Для успеха в творчестве необходимо самообуздание и длительная дрессировка «нутра», что и достигается контролирующей и организаторской деятельностью сознания. Художник всегда является хозяином своего «подсознания». Поэтому-то «забвение себя» и означает в некотором роде «начало» писательской жизни[307].
Перевальские pro et contra темы бессознательного в искусстве приходятся на 1925–1927 годы и проецируются на их полемику с рапповскими и лефовскими концепциями. Поэтому как только на левом фронте обозначался тот или иной радикальный выпад в сторону перевальской концепции искусства как образного познания жизни, следовала акцентация той или иной стороны дилеммы сознательного/бессознательного, рационального/интуитивного. Так, в 1927 году Воронский уже советует современным писателям учиться реализму не только у Толстого, но и у интуитивиста Пруста, в творчестве которого выходы за пределы нормального зрения контролируются культурностью писателя (статья «Марсель Пруст: К вопросу о психологии творчества»), и даже признает в качестве одного из учителей Андрея Белого, с мистицизмом которого (и его влиянием на попутнический молодняк) он так яростно сражался в начале десятилетия («Андрей Белый: Мраморный гром»).
Постулируя в 1921 году, в полемике с эмиграцией и «внутренними эмигрантами», в качестве едва ли не главного тезис, что новая литература России будет создана «советским разночинцем из низов, подлинным демосом городов и деревень»[308], перевальцы к излету первого советского десятилетия выступили едва ли не самыми последовательными критиками рабкоровского призыва в литературу как главного направления строительства новой литературы. Эта дань — отчасти — троцкизму весьма сузила платформу литературной дискуссии с оппонентами. Приняв активное участие в разгроме всех прежних метафизических основ русской литературы, срубив «под корень» (Д. Горбов) литературу внешней и внутренней эмиграции, критики-перевальцы оказались к концу 1927 года один на один со своими оппонентами, никогда не отказывавшимися от «тенденциозности» искусства.
4. «Под знаком жизнестроения» и «литературы факта»:
литературно-критический авангард
Радикально левое крыло литературной критики, представленной на страницах журналов «Леф» (1923–1925) и «Новый Леф» (1927–1928), соединило представителей различных групп, эстетик и течений пореволюционного времени и эпохи Гражданской войны, оставшихся верными своим эстетическим и идеологическим платформам. На страницах журнала произошла по-своему уникальная встреча угрюмых производственников-пролеткультовцев, последовательных в своем отрицании традиционной культуры футуристов, апологетов шпенглеровского языка технической цивилизации конструктивистов и воюющих с общепринятым понятием «традиция» формалистов. Вклад каждого из направлений в лефовский язык интерпретации современной литературы был весомым, в ЛЕФе происходило их взаимовлияние и взаимообогащение.
Лефы-критики вполне резонно считали себя «профессиональными разоблачителями»[309], а их критическое наследие, по их же самохарактеристике (весьма, кстати, точной), «представляет собой своеобразный комбинат отдельных творческих работников-фабрик»[310]. Владимир Маяковский (главный редактор журнала), Николай Чужак, Виктор Шкловский, Николай Асеев, Осип Брик, Борис Арватов, Петр Незнамов, Сергей Третьяков, Виктор Перцов — главные имена критиков группы ЛЕФ; за каждым из них стоит разработка того или иного аспекта проблематики «культурного новаторства»[311], на котором они настаивали и который отстаивали. Группа небольшая, но вклад этой «могучей кучки» в культурный процесс двадцатых годов оказался весомым. «Культурстроительная» деятельность критиков-лефовцев охватывала самые разные области. В 1923–1924 годах они активно участвуют в созданном при Социалистической академии общества «Октябрь мысли»; первыми начинают изучать язык Ленина (первый номер журнала «ЛЕФ» за 1924 год); им принадлежит ведущая роль в утверждении эстетических принципов нового советского кинематографа и в окончательном уничтожении к концу первого советского десятилетия остатков русского дореволюционного кинематографа («протазановщины»), Лефы нисколько не передергивали, когда в 1927-м ставили себе в заслугу, что они первыми (даже раньше партии) начали борьбу с мужиковствующими, «есенинщиной», упадничеством в театре («Дни Турбиных» Булгакова) и литературе[312]. Они отвергали сыпавшиеся на них упреки в кружковщине и «богемности», считали ЛЕФ лабораторией, где вырабатываются принципиально новые основы культуры, которую — как главное достижение эпохи пролетарской революции — советское государство представляет на Запад.


![Сандра Салманс - Боль в спине [Вопросы и ответы]](/uploads/posts/books/201633/201633.jpg)