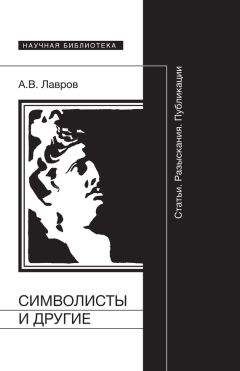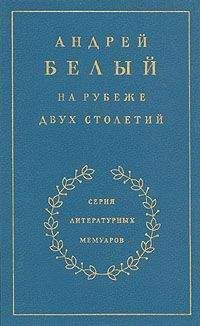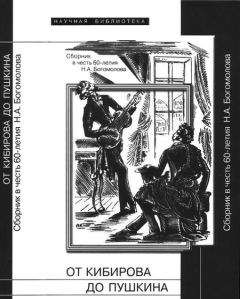Всеволод Багно - На рубеже двух столетий
Сохранившиеся архивные материалы читальни[379] свидетельствуют о важной роли этого культурного центра для всех русских, поселившихся в Риме или же временно пребывающих в итальянской столице. После большевистской революции библиотека стала центром русской эмиграции в Риме и наряду с традиционными культурными мероприятиями занималась также филантропической деятельностью, оказывая помощь беженцам[380]. Именно здесь был создан Трудовой комитет (Ufficio del Lavoro), который служил центром экономической поддержки русских экспатриантов и содержал столовую и кооперативную женскую пошивочную мастерскую. При библиотеке был также организован Комитет помощи русским в Италии, игравший координационную роль среди аналогичных центров в Милане, Неаполе и Генуе.
В протоколах и других документах Комитета имя Петровской появляется относительно часто: так, из протокола собрания от 1 ноября 1920 года следует, что Комитет решил предоставить Петровской 150 лир. При этом подпись Петровской под протоколами собраний указывает на различные ее должности: представителя Комитета в октябре 1920 года и секретаря в течение первой половины 1921 года[381].
В документах читальни также фигурирует имя Анджело Синьорелли: супруги Синьорелли в эти годы всячески помогали Комитету и как врачи участвовали в работе различных гуманитарных организаций в Риме, например Красного Креста, возглавлявшегося княгиней Юсуповой[382].
Президентом Комитета в тот период был Карл Людвигович Вейдемюллер, активный деятель русской эмиграции в Италии[383]. Ему, как директору Комитета, было адресовано письмо Петровской от 2 февраля 1921 года, обнаруженное недавно в архиве Библиотеки им. Гоголя. В письме Нина Ивановна обращается к Вейдемюллеру с просьбой найти с помощью Комитета сумму денег, необходимую для снятия новой квартиры (свое прежнее жилище Петровская была вынуждена оставить). Кроме того, писательница обращается к Вейдемюллеру с просьбой ходатайствовать за нее перед влиятельными членами русской колонии в Риме, в частности перед И. Персиани[384] и уже упоминавшейся княгиней Юсуповой.
В те же самые дни, 25 января 1921 года, Петровская пишет Ольге Синьорелли, чтобы рассказать ей об означенных трудностях и просить о новом посредничестве при обращении к той же Юсуповой или Дягилеву[385].
Эти письма, написанные в один и тот же период времени, свидетельствуют о тяжелой ситуации, в которой оказалась Петровская вследствие потери квартиры и невозможности быстро разрешить возникшую проблему, — драматичный результат крайней бедности, свойственной многим русским беженцам в Италии и в других центрах эмиграции.
Из письма к Ольге Синьорелли мы узнаем, что Петровская, помимо прочего, работала в женском кооперативе при русском центре и что ее работа там оказалась недолгой.
Третье письмо, обнаруженное нами в частном архиве, также отправлено из Рима, однако точной его датировке мешает плохая сохранность документа. В письме нет упоминаний о конкретных лицах: Петровская описывает римский народный праздник, по всей вероятности карнавал, как некое адское действо и вспоминает отзыв о подобных зрелищах Андрея Белого.
После окончательного отъезда Петровской из Рима в Берлин осенью 1922 года в ее письмах к Ольге Синьорелли время от времени мелькают воспоминания об итальянских реалиях, о которых в те же годы она пишет выразительные очерки для берлинской эмигрантской газеты «Накануне».
Дополнительным свидетельством о жизни Петровской в Италии является открытка с фотографией виллы Залманова в Больяско, отправленная писательницей Ольге Синьорелли из Берлина и датированное 15 ноября 1922 года. Текст открытки гласит: «На этой вилле я бывала счастливой 8 лет назад». Изображение — вполне канонический образ Италии — подтверждает определение Петровской десятилетней давности: «мраморная лестница, пальмы, розы, кактусы, апельсины, в окнах море, море…»[386].
К небольшому эпистолярному корпусу Нины Петровской, относящемуся к послевоенному итальянскому периоду, следует добавить еще одно письмо, от 12 июня 1921 года, адресованное А. С. Ященко, редактору «Русской книги»[387].
Общее настроение римских послереволюционных писем Петровской, в которых преобладает чувство отчаяния и отчуждения от окружающей среды, служит подтверждением того тезиса, что Италия отнюдь не оказалась для нее раем, но скорее чистилищем, как она сама охарактеризовала впоследствии жизнь русских беженцев в итальянской столице:
«Вспоминаются горестно годы, проведенные в Риме в какой-то неизгладимой обиде»[388].
Осенью 1922 года Петровская уехала в Берлин.
______________________Roma. <нрзб.> <между 1920 и 1922 гг., во время карнавала>
Дорогая,пошлю это письмо наперекор стихиям и событиям, но верю, что оно все-таки дойдет, потому что в любви и нежности есть своя магия. Вспоминаю Вас непременно, а эти дни особенно, обнимаю Вас душой. В Риме невыносимый флюид. Мне лично одинаково ненавистны сейчас все: и те, кого грабят, и те, кто грабит. Ненавистны жадные глаза, жирные пакеты, ненавистен принцип «брать», потому что единственный принцип для достижения всяких благ — это «давать». Андрей Белый был уверен, что на маслянице над Москвой стоит мертвенно-синий, удушающий дым, в котором витают вампиры. В эти дни он ходил в маске и бросал в темные прихожие знакомых, полные блинного чада, белые цветы. Здесь некому бросить эту перчатку данному моменту.
Трагический карнавал в разгаре. Если бы Вы видели, как я, раздавленные на мостовой яйца, если бы хоть один раз попятились в ужасе от людей, бегущих с окороками и колбасами (это было буквально рядом в Annona<?>[389]), если бы видели не море, которое все время поет о вечном, а этот темный хаос, может быть, и Вы почувствовали бы то же желание, мое желание: сорвать с себя все одежды, что принуждает носить лицемерная цивилизация, опоясаться веревкой и босиком уйти в лес. Правда человеческая и правда Божья никогда не уживутся на земле. На земле нужно «уметь» жить, и она не принимает «блаженных». Она только умеет венчать их терновым венцом… Мне тошно, у меня кружится голова, я не сплю, обостренная нервная чувствительность заставляет per forza[390] вдыхать самые тяжкие эманации, и я смущаюсь душой. В одном не сомневаюсь: рай земной не нужен, ибо он не от Бога, не от Духа.
Вчера, при случайной встрече мне хотелось поцеловать Эйзенштат[391], потому что она сказала о Вас два слова так хорошо, удивительно хорошо. Это дорого мне, п<отому> что она живет в другой плоскости, а вспомнила Вас, и вдруг глаза мечтательно засинели и заглядели куда-то.
О себе мне Вам нечего рассказать. Был такой маленький поэт, друг А. Белого, он однажды прочел свои ненапечатанные стихи, из которых у меня в памяти только и осталось… «…я в пустыню иду / И свечу восковую несу»[392].
Эту «свечу» нужно «донести» зажженной и вручить Тому, кто заставил ее нести. Потому иду, потому несу, потому не ропщу. Так мало, мало могу я сказать в этих строчках. Мне бы хотелось подойти к Вам и чтобы Вы заглянули мне в глаза и почувствовали близкой, потому что я полюбила в Вас самое дорогое Вам самой.
Обнимаю Вас нежно и крепко.
Ваша навсегда,
Нина. Напишите Cassiodoro 1, int. 8, presso Angelucci. Письмо H. Петровской К. Л. Вейдемюллеру[393].Roma 2/2 <1>921.
Глубокоуважаемый и дорогой Карл Людвигович,Я Вас тревожу по моему личному делу — и Вы меня, надеюсь, простите. Ваше мнение, «что неудачники сами виноваты», может быть, не так уж верно, как Вам кажется. Все в этом мире relativo…[394] Пишу Вам в момент крайнего житейского затруднения. Мне нужно переменить комнату. Закон в этом случае, конечно, меня защитил бы, но сражаться в зоологическом саду со зверями выше всех моих сил. При помощи адвоката удалось отсрочить отъезд до 10-го февраля, что близко. Certi amici[395] мне дали адрес<а?> комнат, но не могу пойти — ибо нужно платить anticipate[396], а у меня нет ни малейшего заработка. Вчера не могла подать просьбу о пособии, т<ак> к<ак> пришлось бы конкурировать со слишком непоправимыми бедствями. Положение создается безвыходным (не будем снова говорить о неудачниках…). Может быть, Вы, Карл Людвигович, при добром желании смогли бы помочь мне? Есть на свете Персиани, я знаю, что посольство помогало Комитету[397] в случаях крайних. Быть может, Персиани ассигновал бы мне £ 300 из будущего. Ехать к нему от себя я считаю невозможным. Если Вам не кажется не исполн<имо?>, будьте добры, или поговорите с ним обо мне, или дайте мне какую-нибудь записку к нему.