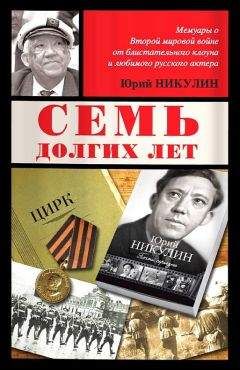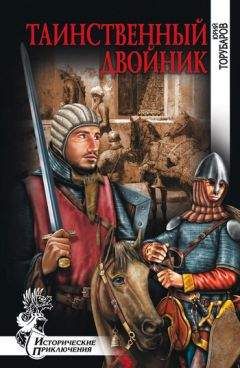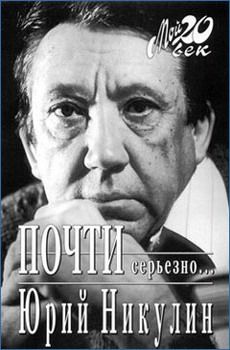Юрий Назаров - Только не о кино
5 августа… В счастье, в то, что я смогу когда-нибудь все-таки стать цельным настоящим человеком, а не «тонкоинтеллектуальным», способным лишь «анализиговать» ублюдком — в это я давно уже перестал верить… (Вру ведь! Верил, надеялся, если б действительно перестал верить, не повторял бы без конца, что «перестал»…)
26 августа 55 г. Смотрел «Княжну Мэри» в кино… Какую-то новую веру («перестал верить»… похоже), новые крылушки дала она мне. Ну, урод я, слабый, но ведь… не дурак же кромешный, не Грушницкий. Значит, что-то во мне есть? Значит, можно еще на что-то надеяться?
29 августа… Нет, урод же ты! (себе)… Ох и талия у Люды!.. Тонкая, гибкая, нежная… И грудь… Дышит. Хороша. да не наша. Прости, Господи, люди твоя…
1 ноября 55 г. Что-то страшное впереди… Страшно от собственной непроходимой глупости, нежизнеспособности… Мои вечные враги и тут рядом, они уже взяли меня крепко под руки и тянут куда-то… сели на шею, давят… глупость, идиотизм мой подлый… Страшная пассивность, лень и сон вяжут глаза, руки, мозги…
Слава богу, не читал я в те поры «Белых ночей» Достоевского, где Федор Михайлович с присущей ему гениальностью неопровержимо доказывает, что Мечтателям никакого счастья никогда не видать. Ничего у них никогда не получится!.. Я читал «Трех мушкетеров» — у тех все всегда получалось. Хотя со счастьем тоже трудности были, но жить все-таки можно было.
А дружба-то продолжалась. Страдания, самокопания и раздрызг — сами собой, а дружба — сама собой. И друзьями я не только восторгался, завидовал их трудолюбию, целеустремленности, талантам, но и материл их, бывало. И в глаза, и в дневнике. И они в долгу не оставались…
И родители с нами маялись, и нам не сладко приходилось. А кому когда легко было? Когда легко бывало молодой, входящей в мир душе, ищущей себя и свое место в мире?
А ведь в Москву, в театральное поступать — это его идея была, Витькина. Он первый — узнал где-то? решил? придумал? — не знаю даже… Он сказал, а уж я — за ним. С ним. И Эрьке Менделеевский — Витя нашел и подсказал. И поступать в Москву мы поехали втроем. Только Витьку не приняли. Мы с Эрькой поступили каждый по Витиному «направлению», а сам он не прошел… Ни в одно — их ведь пять вузов в Москве было, где учили «на артиста»: школа-студия МХАТ, ВГИК, ГИТИС, Щепкинское при Малом и наше, Щукинское, Вахтанговское (жутко коробит нас, стариков, когда молодежь нынче как-то фамильярно сокращает: «Щепка», «Щука»… Коробит). Мы, естественно, подавали документы и ходили на приемные прослушивания во все — вся эта история легла в основу сюжета Викторова романа «Когда же мы встретимся…»
А без Виктора я — тоже: полгодика проучился да и бросил. А летом 1955-го мы с Виктором поступали в Новосибирский сельхозинститут, на агрономический факультет. И поступили! Только учиться не стали. Я сразу же документы забрал, он — несколько погодя. Вот тут меня Витькина мать, тетя Таня, Татьяна Андреевна «залюбила»… Как когда-то Эрькина Клавдия Алексеевна, когда я Эрьку во 2-м классе «русскому» языку обучал…
19 октября 55 г…. меня уже ненавидит Витькина мать за то, что я будто бы своим шалопайничанием сбиваю и Витьку уходить из Сельхоза. Хоть это и не так, но мне ответить нечего…»
Это все трудности да сложности, а дружба-то продолжалась! Вот тут она основную закалку и испытание на прочность, наверно, и проходила 19 октября 55-го: «Сейчас Витьке нужна помощь. Действенная, практическая. Он поворачивает к искусству» (!) Окончательно «повернул» только лет через 5–7: окончив филологический факультет Краснодарского пединститута, успокоившись, наконец, по поводу обманувшей сцены (а успокоился не враз, водил я его в эти годы и во ВГИК, и к М.А.Ульянову, преподававшему тогда у нас в Щукинском) и начав потихоньку писать да печататься. А тогда, в 1955-м, до «поворота» — ой-е-ей! — сколько еще было… Но уже поворачивал! И друг, я то есть, знал это раньше всех!.. А тут какой-то Сельхоз под ногами…
19 октября 1955… Виктору нужна Москва (в смысле: учеба, среда!), нужна помощь друга. Что я могу? Помощь, деньги нужны. Бьюсь, как рыба об лед, — и не могу пробиться сквозь собственную тупость и непрактичность. Вот оно, самое желанное: испытание верности, дружбы — «другу срочно нужна помощь». (Это когда он из колхоза, куда ездил на хлебоуборку первокурсником сельхозинститута, привез первый свой рассказ, первую пробу пера; то, что потом, много позже, преобразовалось и вылилось в повесть «Чалдонки») — «нужна помощь друга, а я — как без рук — дергаюсь, а сделать ничего не могу…»
Всяко бывало. Мордобоев особенных между нами не вспомню. Хотя… Было! И это было. А уж ссоры, обиды, охлаждения… Бывали. И не мелкие. К Кагану вон какие-то претензии были. А, может, просто всплеск юношеского антисемитизма… А ведь это Валек навел нас с Витькой на мысль — и на дело! — «Раз вы искусством собрались заниматься, значит, надо наблюдать жизнь».
Истина? Истина. Дело? Дело. И мы взялись. А кто больше всего расположен к откровениям? Конечно же, пьяный. Ни одного пьяного мы не пропускали! И им было хорошо, пьяным-то: было кому душу излить, были благодарные слушатели; и нам — полезно! Как же это тренировало!
И память, и наблюдательность: попробуй-ка, запиши потом по памяти листа полтора-два разговора, рассказа, исповеди… А все кто? Друг Каган!
21 декабря 1952 (школа еще! 9-й класс). Замечательнейший день! Сегодня я, Валька и Витька (Каган и Лихоносов) говорили о дружбе. ..очень многое выяснили в своих взаимоотношениях и договорились в будущем всегда указывать друг другу его ошибки, как бы тяжело это ни было. Пусть же этот день будет Днем нашей дружбы».
Все вроде просто. Как учили, как завещали… А почему нас плохо должны были учить?
«Угодливость родит приязнь, а правда — злость», — знал и писал в комедии «Андрия» Публий Теренций более чем за тыщу лет до введения еще письменности на Руси. Все это так, и с классиком не поспоришь. И тем не менее! Когда правда не злая, а доброжелательная? Когда правда не в том, чтоб горбатому напомнить о его уродстве — хотя это тоже правда, но правда злая и бесперспективная, исправить ее невозможно, эту горькую и досадную правду. Но лентяю или разгильдяю, который плачется на свою судьбу, указать причину его бед — его собственные недостатки, лень или разгильдяйство, но которые можно исправить, — вот эта правда действенна и благотворна! И научиться говорить такую правду и слушать ее, выслушивать — это ли не школа жизни, не школа дружбы?
А это ли не дружба? Все тот же 1955 год, те же поиски, метания, муки, страдания, самокритика, самоуничижения, самобичевания:
31 июля 1955…Валяюсь, выламываюсь дома. Один. Как сытый жеребец по весне в одиноком, запертом стойле. Кто запер? Лень и дурость — две мои верные, неотступные подружки, преданные до гроба…
Мысли опять… мечутся. Что мухи в мусорной яме. В театр охота — знаний мало, таланту нету… («Какого нужно?» — приписано Викторовой рукой в том же 1955-м и подчеркнуто!) Витьку надо… В институт без Витьки не иду — и его рукой: «Дуррак!!!!» (так и написано: два «р» и четыре восклицательных знака).
Это ли не дружба? Сам Витек в раздрызге, в неизвестности, в неустроенности, а бьется, воюет за меня, за друга! Со мной, с «дурраком», и — за меня!
Что вытекает из чтения дневника того времени для меня сегодня? В чем особенность того меня, восемнадцатилетнего? Щенячье-восторженное отношение к жизни, к окружающему и — лютая самокритичность. Неостановимая, перехлестывающая. А может, только так и надо? Может, это и есть самый благотворный и верный путь для развития и становления семнадцати-восемнадцатилетнего индивидуума? А щеняче-восторженное отношение к жизни переносилось и на друзей — они ведь тоже были частью жизни, меня окружавшей.
Казалось бы! Я сам добровольно выбрал себе место скромное и гораздо более низшее по сравнению с тем, на которое — сам же! — поставил своих друзей. И, наверно, было бы ужасно, если б это мое самоуничижение, искреннее и истовое, точно и буквально воспринималось друзьями, если б и они меня считали жалким, бесперспективным ничтожеством.
Монтень пишет: «…каждый день…я ворчу на себя, обзывая себя дерьмом. И все же я не считаю, что это слово точно определяет мою сущность». Но Монтень, видимо, писал это в более позднем и спокойном возрасте. А в 18–19 лет… И перегибы, и гиперболизация (по крайней мере у меня) были абсолютно искренни, и переживания по этому поводу доводили порой чуть не до самоубийства — такова была искренняя вера или убежденность в собственном ничтожестве и полной бесперспективности. И в то же время, точно такая же, искренняя и откровенная, не скрываемая от друзей самокритика друга — тобой воспринималась не как ожесточенная самокритика, не нежнее, а, возможно, и безысходнее твоей собственной, а как изысканнейший юмор: ну я-то знаю, какие замечательные и необъятно талантливые у меня и Витя, и Эрик (и Каган, и Пищик, и Вовка Кириллов!). А то, что они обзывают сами себя «тупыми», «неспособными», «слабыми», «маленькими» — это юмор. Блестящий юмор, которого мне тоже не дано… потому что я знаю и искренне убежден, что я туп…