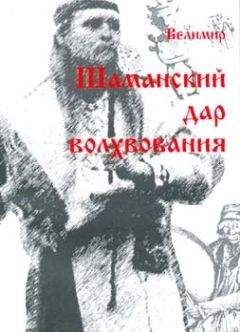Николай Сперанский - Ведьмы и ведьмовство
Правда, отдельные личности с светлой головой и крепким характером, пополняя великие недочеты теоретического своего образования в школе практической жизненной деятельности, довольно рано стали доходить до относительного свободомыслия в вопросе о возможных границах волшебства. Так, ранее помянутый уже нами лионский епископ Агобард, рассказав, что в его епархии «почти все жители, знатные и незнатные, горожане и мужики, молодые и старые, уверены, будто град и гром могут быть накликаны людьми», разражается против подобной мысли великим негодованием. «Несчастный мир подавленный такою глупостью, что христиане верят нелепейшим вещам, в какие раньше ни за что бы не поверили язычники, не ведавшие Творца вселенной». Так, Регино в помянутом нами сборнике наряду с верою в стриг столь же строго осуждает и веру в оборотней. «От истинной веры отпадают и те, кто полагает, будто какая–нибудь иная сила, кроме Божией, способна обратить живое существо из одного вида в другой высшего или низшего порядка». Так, Бур–кард, осуждая вместе с Агобардом веру в «наведение бурь» и вместе с Регино веру в оборотней, присовокупляет еще к тому же разряду недостойных христианина бредней веру в девушек–эльфов, увлекающих мужчин в свои объятия, и даже веру в то, будто кто–либо может силою чар господствовать над человеческой душой, обращая любовь в ненависть и ненависть в любовь. Но, помимо того, что в других случаях тот же Регино и тот же Буркард, как явствует из собственных их постановлений, сами верили в реальную силу колдовства, даже в помянутых вопросах они немного находили себе сторонников. Агобард мог доказывать от Св. Писания, что истинным владыкой над бурями и градом является один Господь; но это не мешало тому, что preces ad repellendam tempestatem (молитвы для ото–гнания бурь) оставались обычной составною частью католического требника. В иных местах священник выходил при этом за околицу деревни в сторону надвигавшейся тучи и читал свои заклинания над пылающим костром, куда бросалась издревле ненавистная демонам сера. И если Буркард в Вормсе запрещал своим духовным сынам верить, будто бы колдовством можно приворожить к себе человека, то про его современника и близкого соседа трир–ского епископа Поппо местная хроника (начала XII века) глубоко убежденным тоном рассказывает следующую историю. Однажды некая монахиня из монастыря Пфаль–цель близ Трира по просьбе Поппо вышила для него пару туфель, чтобы надевать при богослужении. Но монашенка эта тайно была влюблена в своего архиепископа, и, прежде чем отослать ему туфли, она их заворожила. Едва Поп–по успел их на себя надеть, как вдруг почувствовал, что в сердце его вспыхнула греховная страсть к этой женщине. В испуге и негодовании Поппо сейчас же сбросил с себя туфли и предложил надеть их одному из приближенных. Чары и на того произвели свое действие. Опыт был затем повторен с целым рядом других лиц из епископской свиты, и все подпадали под волшебное влияние туфель. Тогда Поппо изгнал виновную монахиню из монастыря и изменил весь прежний его устав в гораздо более суровом духе. Он действовал при этом в Пфальцеле с такою беспощадною строгостью, что счел даже потом необходимым ради успокоения совести предпринять паломничество в Святую Землю. И если в Грациановом Декрете санкционировался Canon Episcopi с его осуждением веры в стриг, то этот же Декрет в столь важном отделе, как вопрос о поводах к разводу, санкционировал и веру в реальную возможность одного из главнейших ведовских преступлений — в возможность чарами сделать человека неспособным быть мужем своей жены. Что же касается критического отношения раннего средневековья к стригам в том виде, как они тогда существовали, то само по себе это отнюдь еще не служит доказательством особой трезвости тогдашнего церковного миросозерцания. Из всех тех представлений, которые сплелись в образ ведьмы, возможность для живых людей летать по воздуху всегда наталкивалась на самый резкий протест со стороны простого здравого смысла: закон Ньютона таился в глубине здорового сознания за тысячи лет до своей научной формулировки. Смуту могли вносить здесь лишь собственные убежденные рассказы людей о совершавшихся ими якобы полетах; но эти россказни с крайней легкостью опровергались свидетельствами лиц, живших с такого рода ночными путешественниками под одной кровлей. И таким образом у нас нет никаких оснований удивляться тому, как раннее средневековье на низкой степени своего культурного развития могло относить все эти бредни в область сонной жизни. Истинною загадкой здесь остается то, как через тысячу лет после лангобардского короля Ротара духовные и светские правители в Западной Европе оказывались способны так сильно уступать этому своему отдаленному предшественнику в степени «просвещенности», когда дело шло о совершенно схожих бреднях.
Но если подобное отрицательное отношение к вере в стриг даже для раннего средневековья не может признаваться какой–нибудь аномалией, то несколько труднее объяснить другое явление, которое тоже бросается в глаза всякому, кто взглянет на изучаемую эпоху с точки зрения нашего вопроса. Действительно, за всю первую половину средних веков Западная Европа бесспорно погрязала в глубочайшем невежестве, при котором интеллектуальная основа трепета перед волшебством, привычка видеть всюду непосредственное вмешательство добрых и злых духов, оставалась в полной неприкосновенности во всех слоях тогдашнего общества. Привычка эта далее не только не сдерживалась, но развивалась самою общественною воспитательницею, католическою церковью, сделавшей из страха перед демонами главное орудие своей «социальной педагогики». В подобной атмосфере каждый считал необходимым вечно держаться настороже против опасностей, которыми отовсюду угрожало чужое чародейство. Зная все это, мы ждем, конечно, что данная эпоха окажется одной из худших в истории гонений на злых волшебников. И между тем на деле мы этого нисколько не находим. Отдельные случаи бесчеловечной расправы с людьми, заподозренными в колдовстве, мы, конечно, встречаем и в эту пору. О них не раз упоминает Григорий Турский, передавая историю кровавых распрей, терзавших королевский дом Меровингов. И позже в летописях нам попадаются то там, то сям известия вроде того, что «в 1128‑м году, когда граф фландрский Дитрих Эльзасский исчах от непонятной болезни сердца и внутренностей, его приближенные схватили женщину, которая, по их предположению, напустила эту болезнь на графа, и сожгли ее живою», или что в том же году «гентские граждане выпустили из одной ворожеи кишки и, вырвав из трупа желудок, носили его по городу». Иногда к подобной расправе прилагали свою руку и установленные общественные власти. Из XI и XII столетий до нас дошло несколько фактов сожжения за колдовство по правильному судебному приговору. Но подобные известия за первую половину средних веков оказываются у нас все наперечет, и сколько бы мы при этом ни относили на счет крайней скудости наших источников, все же остается несомненным, что преследование колдунов нигде в Европе не играло в это время сколько–нибудь заметной роли в народной жизни. В приливе религиозной ревности «колдунов резали, как цыплят», по выражению Аммиана Марцеллина, иные из императоров IV и V века по Р. X., когда в Европе еще процветала римская культура. Колдуний тысячами кидала в пламя Европа XV и XVI веков, когда культура в ней снова успела возродиться. Но в промежутке, в ту пору, когда Европой правили «нечесаные неучи», она почти не обагряла своих рук колдовскою кровью.
Один из самых талантливых исследователей нашего предмета, не так давно скончавшийся Вильям Лекки, представил по этому поводу в своей «Истории рационализма» следующие соображения. Поразительно спокойное отношение к волшебству самого темного периода в истории умственного развития Европы он объясняет именно его темнотою. «На первый взгляд, — говорить он, — конечно, кажется совершенно непонятным, что в данный исторически период, когда суеверие было так могуче и разлито было так широко, казни за колдовство встречаются сравнительно редко. Никогда не бывало времени, когда человеческий ум был бы более преисполнен и затемнен сверхъестественными представлениями и когда мысль о власти и повсеместном присутствии бесов господствовала бы в столь неограниченных пределах. Тысячи случаев одержания бесами, изгнания их, чудес и появлений дьявола вечно обращались в общественной молве. Их принимали без малейшего сомнения, и они были самой обычной областью, в которой упражнялась фантазия. Но, как это ни кажется для нас теперь удивительным, при самой твердой вере в действительность подобных происшествий представления эти не вызывали никакого терроризма. Самый избыток суеверия и служил суеверию коррективом. Все верили, что сатана вечно грозит добрым христианам всякими опасностями; но точно так же все твердо верили, что крестного знамения, нескольких капель святой воды и т. п. совершенно достаточно, чтобы немедленно обратить его в постыдное бегство… Все представления об окружающих нас бесах, вся восприимчивость к чудесному, которые столь роковым образом действовали на фантазию в XV и в XVI веках, были уже тогда налицо. Но та безусловная вера, то безграничное и торжествующее легковерие, с которым люди относились к могуществу церковной обрядности, делали эти представления сравнительно безвредными. Будь общество немного менее суеверно, последствия его суеверия оказались бы гораздо более ужасными».