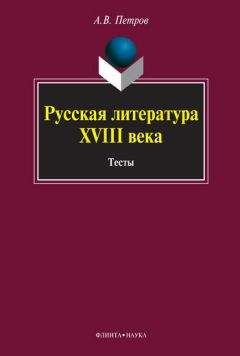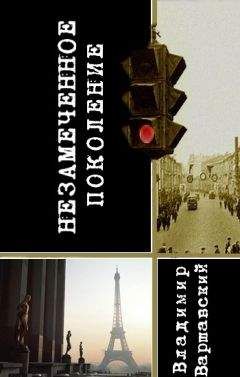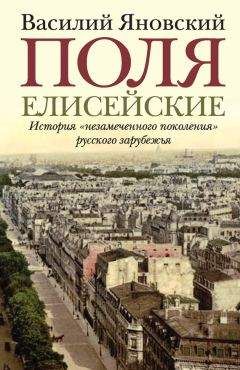Ирина Каспэ - Искусство отсутствовать: Незамеченное поколение русской литературы
На способности современного оборачиваться вечным основывается и та самая идея «подпольной», «внутренней», скрытой от посторонних глаз современности, которая культивировалась авторами журнала «Числа». Так, в описании Владимира Варшавского «эмигрантская литература», «лишенная социального и внешнего, <…> существует реальнее, чем многие „факты“ и, находясь на стороне „сущности“ против общественности, — тем самым является современной литературой»[293]. Объявляя о своем намерении следовать подобной стратегии, эмигрантские литераторы ни в коем случае не считают ее эскапистской — Юрий Фельзен подчеркивает: «Обвинять эмигрантских писателей в каком-то „искусстве для искусства“, в отходе от действительности, в робости перед жизненной борьбой не справедливо и просто неверно: именно они настолько охвачены реальностью, как никакие их предшественники и современники»[294]. В хронике очередного вечера, посвященного «Числам», читаем: «Докладчик (Юрий Софиев. — И.К.) отметил с удовлетворением, что среди сравнительного литературного благополучия произошел раскол, разделивший молодых писателей на два лагеря: одни считают самым важным ежедневное писание стихов, „ремесло“, другие, следуя за „Числами“, хотят говорить и думать не о „красивом“ или „злободневном“, а о самом главном, о какой-то последней правде»[295]. Для нас сейчас важен не столько хрестоматийный спор Ходасевича (сторонника «литературного ремесла») и Адамовича (апологета «человеческого документа»[296]), угадывающийся за этим противопоставлением, сколько то, что на одном полюсе размещаются и «злободневность», и «красота», тогда как на другом — «какая-то последняя правда». Речь идет о незамутненном переживании реальности, которое не должно умещаться в конвенциональные рамки «эстетического», «политического», «социального». «Последняя правда» как модус актуальной реальности и актуального литературного текста включается в ретроспективный образ эмигрантской литературы, воссоздаваемый начиная с 1950-х годов в мемуарах и сборниках статей. На полюсе «последней правды» Георгий Адамович обнаруживает «„современность“ в истинном смысле слова»: «В такие эпохи, как наши, — эпохи-экзамены, эпохи-испытания, — современно то, что на умственном и эмоциональном уровне ее, вовсе не только то, что именно о ней говорят»[297]. Владимир Варшавский апеллирует к идее «последней правды», «последней реальности» для того, чтобы подтвердить верность реалистическим традициям русской литературы XIX века, коль скоро они определяются как «рассказ о самой сущности, о самом „факте“ жизни, а не только о ее преломленных отражениях в социальном и интеллектуальном плане»[298].
Итак, внутренняя, скрытая, подлинная, настоящая современность противопоставляется внешней, наносной — слишком очевидной, слишком конвенциональной (будь то литературная конвенция или, шире, социальная). Именно такой образ современности вместе с сопровождающей его аурой вечности и знаками «непрочного существования»[299], «как бы вне времени и пространства»[300], «где-то вне истории, сбоку»[301], вне «цепи поколений»[302], принимается в качестве поколенческой программы. Другой способ говорить о современном — как о возможности действовать «здесь и сейчас» (мы писали об этом восприятии «современности» в предыдущей главе в связи с выступлением Нины Берберовой на заседании «Зеленой лампы») — явно не привлекателен для коллективной идентификации. Нечастые попытки утвердить приоритет настоящего перед прошлым и будущим заканчиваются провалом и смешением времен: «Будущее (прошлое) перестало казаться нам единственно возможной реальностью, рассчитывать мы можем только на себя, на свою волю к правде, на настоящее (выделено автором. — И.К.) — все это мы почувствовали давно, но осознали только теперь, и нет нам больше покоя. Не сегодня, так завтра (выделено мной. — И.К.), мы должны стать на новый путь — каким он будет нам пока еще трудно сказать, но мы уже предчувствуем его, и нам страшно, и не только за себя, но уже и за других, и очень больно»[303]. Настоящее заполняется предчувствиями, страхом, болью, но категория сколько-нибудь результативного действия соотносится исключительно с будущим — причем, что немаловажно, труднопредставимым, неподконтрольным будущим.
Здесь чрезвычайно кстати оказывается метафора, которую Мережковский в 1893 году использовал, конструируя образ жертвенного поколения, провозвестника «грядущего идеализма»: «Так иногда под тяжестью камня пробиваются побеги молодого растения. Кажется, что они неминуемо должны погибнуть, подавленные камнем. Но нет в мире такой силы, которая могла бы остановить их упорный, непобедимый рост. Младенчески-слабые и беспомощные, они рано или поздно вырвутся и подымут, если надо, силою жизни огромную мертвую тяжесть камня»[304]. При помощи похожей метафоры Борис Поплавский вводит в свой роман поколенческое измерение, заставляя фикционального героя идентифицироваться с воображаемым сообществом посетителей реальных монпарнасских кафе: «Ты один из тех, кто сейчас остановлены в стороне, которые упорно растут, как хлеб под снегом, которые удостоятся, может быть, войти в ковчег мирового потока — мировой войны. Ковчег, который ныне строится на Монпарнасе»[305]. Наконец, обличая «парижское», «монпарнасское» литературное сообщество, монополизировавшее образ «молодого эмигрантского поколения», Василий Федоров описывает незавидную судьбу других, провинциальных литераторов, вынужденных «расти „под кирпичом“, как растут под ним на лугу весенние травы, расти вкривь и вкось, но расти во что бы то ни стало. <…> Есть все же какая-то доля надежды, что кирпич будет сдвинут <…> и полузадушенный, полураздавленный эмигрантский писатель скажет, наконец, свое слово»[306]. Вообще любые объективации внешних воздействий — будь то «история», «судьба», «катастрофа», «тяжелые условия», «старшее поколение», «столичные литераторы» — как правило, оказываются связаны с семантикой гнета или, по меньшей мере, авторитетного давления. Нашим героям приходится либо «выносить» на своих плечах («одиночество», «нищету»), либо «учиться» («у истории», «у самой жизни», у «русской» или «западной» литературы): «Молодежь учится в условиях крайне тяжелых, но учится упорно»[307]. Подчеркнем, что если и намечаются какие-то каналы взаимодействия с окружающим эмигрантов «западным миром», то они чаще всего определяются именно как ученичество[308]. При этом целью обучения объявляется не столько ориентация в новом социальном пространстве или адаптация к нему, сколько приобретение «опыта», способного обогатить когда-нибудь «русскую литературу» или оправдать и утвердить конструкт литературы «эмигрантской»: «Наше скитальчество окажется не напрасным, если мы хотя бы соберем материал. Решать же будет Россия <…>. Здесь французы могут кое-чему нас научить»[309]; «Мы на Западе научились уважению, французскому уважению к себе и к своей личной жизни, мы смеем ее описывать точно, откровенно, подробно, серьезно, и вокруг „полноценности жизненного опыта“ мы сговорились в „Числах“»[310]. Таким образом, основной формулой социальной активности становится «упорный рост» — иными словами, консервация молодости. Если для Мережковского метафора роста предполагала появление следующих, более сильных поколений-преемников, то «полузадушенным эмигрантским писателям» в этом смысле действительно приходится «рассчитывать только на себя» и всячески продлевать иллюзию существования в безвременьи.
Итак, мотивы, которые традиционно приписываются объединениям, группам, коллективным проектам молодых эмигрантов, — адаптироваться к новой социальной реальности, обозначить точки разрыва с «родительскими» базовыми установками, непригодными в новых условиях[311], — в нашем случае если и присутствуют, то явно отходят на второй план. Не ориентируясь на «западные» ценности, а учась «западному» языку для того, чтобы говорить по-русски, наши герои пытаются остаться членами диаспоры, но заявить о себе как о «молодых», «новых», «вторых». Интеграция в существующее замкнутое литературное сообщество и дистанцирование от него кажутся им в равной степени необходимыми и в равной степени невыполнимыми задачами. Сохраняя это шаткое положение, начинающие литераторы балансируют между риторикой преемственности поколений, связанной с XIX веком и русским пантеоном, и — как правило, апеллируя к французской литературной традиции («романтизм», «модернизм», «сюрреализм») — риторикой бунта, разрыва, ухода. Все необходимые ритуалы, по которым должно распознаваться новое поколение, соблюдены, ожидаемые знаки нового предъявлены — будь то высказывания о «литературных новациях» или конструкция «нового человека». Однако за знаками нового скрывается отрицание «злободневной новизны», а конструкция «нового человека», «поколенческого героя» оказывается декларативно пустой. Иными словами, литераторы круга «Чисел» предпринимают попытку включиться во все ускоряющийся темп продуцирования «новаций» (коль скоро именно со сменой новаций соотносятся представления об истории литературы) и в то же самое время прервать эту линию, прекратить продуцирование нового, остановившись на «последней новизне», «последней правде». Особую привлекательность приобретает промежуточная позиция между двумя, безусловно связанными с идеологией непрерывного обновления, негативными образами современного: между пугающим образом молодой, новой России и не менее тревожным образом стремительно стареющей и, вполне вероятно, гибнущей Европы.