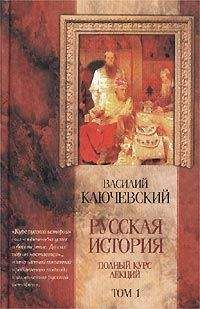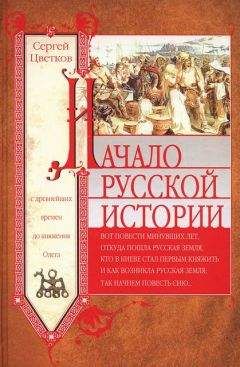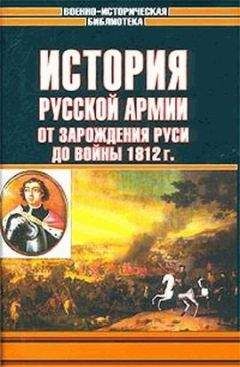Иван Забелин - Расцвет русского могущества
Затем и мифическая троица, как справедливо заметил покойный Гедеонов, тоже не может вполне отзываться мифом, сказкой, легендой. Эта троичность не раз повторяется в живых лицах. После Святослава остаются три сына, после Ярослава тоже землею владеют три его сына, три брата, при которых положено и начало летописи. После Ивана Калиты в начале московской истории тоже являются три сына.
Вообще нет и малейших оснований доказывать вместе с г. Иловайским, что призвание Рюрика есть легенда, сочиненная будто бы в честь Рюрика Ростиславича в конце XII или в начале XIII века. Для этого прежде всего необходимо доказать наклонность и способность нашей древней летописи сочинять подобные легенды. Эта наклонность действительно появляется, но уже впоследствии, когда летопись подверглась литературной обработке по идеям самодержавия и под влиянием этих идей, или вообще идей о русской государственной самобытности и самостоятельности, вставила, например, легенду о происхождении князей даже от Августа Цезаря[75].
Кстати, подобные голые сведения о происхождении династии или народа всегда объясняются сообразно понятиям и образованности века.
Рисуя в лице Рюрика общий портрет княжеской власти, начальная летопись ничего больше и не разумела в этом лице, кроме как старейшину. Последующие летописцы, стоявшие ближе к первоначальным понятиям о своей истории, прямо и называют призванных князей старейшинами: «И бысть Рюрик старейшина в Новгороде, а Синеус старейшина бысть на Беле озере, а Тривор в Изборске»[76].
Но по мере того как развивались в жизни государственные идеи, портрет Рюрика приобретал новые черты: в XVI веке Рюрик происходит уже от Августа Цезаря, следовательно, усвоил себе кесарские черты и стал именоваться государем. В XVIII веке немецкие ученые (Байер, Миллер, Шлецер) разрисовали его полным феодалом, «владетелем неограниченным», основателем русской монархии, который, как норманн, ввел даже феодальные порядки, раздавши своим мужам города и области.
Как известно, в первой половине XVIII века наши доморощенные крепостные идеи очень сильно просвещались и развивались идеями немецкого феодализма, и потому портрет Рюрика по необходимости должен был получить окончательную, даже художественную отделку «первого российского самодержца, основателя российской монархии», как по указанию Шлецера наименовал его Карамзин.
Таким образом, в это время в русскую историю, или, вернее сказать, в политическое сознание русского общества, внесено было понятие, которое со всех сторон противоречило самой природе нашего первоначального исторического и политического развития.
Важнейшее противоречие заключалось в том, что неограниченный владетель, феодал Рюрик, был призван народом добровольно, что народ добровольно поступил к нему в рабство. На первой же странице русской истории, в самом начале этой страницы, поместился, как говорит сам же Карамзин, «удивительный и едва ли не беспримерный в летописях случай: славяне добровольно уничтожают свое древнее народное правление и требуют государей от варягов, которые были их неприятелями. Везде меч сильных или хитрость честолюбивых вводили самовластие: в России оно утвердилось с общего согласия граждан…».
Поставивши этот изумительный случай во главу угла русской истории, а следовательно, и во главу угла русской политической философии, знаменитый историк спешит умягчить производимое им впечатление и замечает: «Великие народы, подобно великим мужам, имеют свое младенчество и не должны его стыдиться: отечество наше слабое, только что изгнавши варягов, разделенное на малые области, обязано величием своим счастливому введению монархической власти».
Напрасно думают, что подобные истины остаются только в книге и не проходят в жизнь. Родная история в том виде, как ее изображают историки, всегда воспитывает политическое сознание народа и отдельных лиц. Изумительная идея о добровольном призвании самовластия, – и именно самовластия, а не простого порядка, – на известной почве принимала большое участие если не в развитии, то в оправдании внутренних крепостных отношений государства во всех путях его действий. Изображенное историей глупое младенчество народа давало людям, почитавшим себя возрастными, широкое основание и, так сказать, философскую точку опоры поступать с народом как с младенцем, держать его вечно в люльке, т. е. в границах безответного владычества над ним и вечно водить его на помочах. В особенной силе это учение, как мы заметили, поддерживалось немецкими феодальными идеями, приходившими просвещать и преобразовывать нашу варварскую страну.
Раcсказавши, как в самом начале устроилось народное дело в Новгороде, летописец тотчас переносится в Киев и повествует следующее: «Были у Рюрика два мужа, Аскольд и Дир, ни родственники ему, ни бояре», – стало быть, люди, не имевшие права на получение волости в Новгородском краю. Поздние списки летописи так и объясняют, что, не получив от Рюрика волости, они отпросились у него идти дальше, в Царьград, с родом своим. На днепровском пути они увидели городок Киев, спросили: «Чей это городок?» Киевляне рассказали, что жили тут три брата, которые и построили городок, и померли, а теперь «седим мы, их род, платим дань козарам». Как бы в ответ на эти речи Аскольд и Дир остались в Киеве, скопили в нем много варягов и начали владеть Польской землей, следовательно, освободили ее от владычества хазар[77].
Основная истина этого предания заключается, конечно, не в именах, которые, как одни голые слова, могут всегда возбуждать бесконечные толки и споры. Настоящая истина предания раскрывается в том существенном обстоятельстве, что в былое время в Киеве оставались на житье люди, проходившие этой дорогой в Царьград, что в былое время этим способом Киев населился сборищем варягов и при их силе сделался владыкой страны; что Киев, одним словом, в свое время был таким же гнездом для проходящих, странствующих варягов, как и северный Новгород.
Но и самые варяги поселялись в Киеве, конечно, по той причине, что здесь место было вольное, отворявшее двери во всякое время всякому проходящему, что это вообще был перекресток или общий стан для проходивших людей от всех окрестных сторон.
В самом деле, в отношении ко всем верхним, северным землям киевское место представляло окраину, речное устье, куда стекались речные дороги от всего населения по притокам кормильца Днепра, из которых важнейшие, Припять от запада и Десна от востока, вливались в Днепр почти у самого Киева.
Точно так же и по отношению к низовым, степным землям киевское место тоже было украйной. Оно вообще лежало на сумежье, посреди рубежей, которые сходились здесь от разных племен. После Вышгорода, стоявшего на 15 верст выше, Киев был самым северным поселком племени полян. Вышгород оттого, вероятно, и прозван своим именем, что лежал не только выше Киева, но выше всех городских поселков этого племени.
Летописец не обозначил племенных границ славянского расселения, указывая только главные его города. О полянах он сказал, что они сидели в полях, и средоточие их указал в Киеве. Но Киев не был серединным местом полянских земель. По всему вероятию, в давние времена их сердцем было течение Роси; оттого же они и прозывались русью, росоланами и роксоланами. Можно полагать, что на юге их границами был тот угол, где в Днепр с востока вливалась река Орель, или Ерель, которую русь называла углом, и где с правой, западной стороны Днепра находились источники Ингула и Ингульца, которые тоже означают угол. Не потому ли эти реки и прозваны углами, что на самом деле они составляли углы или границы собственно русского оседлого племени? Можно полагать также, что западная граница полян не переходила дальше Верхнего Буга на юго-запад и Тетерева на северо-запад; восточной границей был Днепр. От Киева за Вышгородом тотчас начиналась земля древлян, затем по Припяти – земля дреговичей, на Десне – земля северян, а несколько выше, по Сожу, жили радимичи; дальше само течение Днепра составляло тоже границу со смоленскими кривичами.
Этим пограничным местоположением Киева объясняется и особая вражда к нему ближайших его соседей, древлян, которые вначале причиняли ему большие обиды. Вольный город раскидывал свое поселение в их земле или очень близко от их рубежа, и вражда необходимо возникала от тесноты, от захвата мест и угодьев. Быть может, вся местность Киева в древности принадлежала древлянской области. Имя полян в коренном смысле обозначает земледельцев – степняков, которые с течением времени, как видно, забирались по течению Днепра все выше и выше и прежде всего захватывали, конечно, вольные берега. Точно так же и промышленность севера, спускаясь все ниже по Днепру, могла указать выгоднейшее место для поселения города, хотя и на древлянской земле, но в области владычества полян, т. е. на самом течении Днепра. Все это заставляет предполагать, что Киев с самого своего зарождения не был городом какого-либо одного племени, а, напротив, народился в чужой земле древлянской, из сборища всяких племен, из прилива вольных промышленников и торговцев от всех окрестных городов и земель.