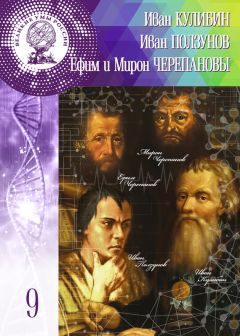Алексей Чачко - Искусственный разум
Реальный мир, в котором мы живем, предстает перед нами то аддитивным, то неаддитивным. Обличья мира зависят от того, какова задача, что для нас существенно, а что второстепенно, какие эффекты важны, а какими можно пренебречь, не потеряв главного. ЛЮБОЗАР решает только проблемы аддитивного мира, да и то тщательно приготовленные, препарированные человеком. Слабости ЛЮБОЗАРа перед нами как на ладони: он незадачлив, простоват, медлителен. Среди специалистов по Искинту ходят упорные слухи о том, что авторы ЛЮБОЗАРа поставили перед ним задачу о совершенствовании самого себя. По словам одних, ЛЮБОЗАР не решил этой задачи, ибо, не ведая того, оказался в неаддитивном мире.
Другие говорят, что программа задачу самоусовершенствования решила, сообщив, что ЛЮБОЗАР - предел совершенства. Смешно, но это правда, он совершенство в своем роде. Авторы программы после всесторонних ее испытаний пришли к такому заключению: "Чтобы добиться чего-нибудь существенно нового, нужно придумать совсем другие принципы и написать совсем другую программу".
Авторы ЛЮБОЗАРа отдали своему детищу 14 лет жизни, упорно совершенствуя прекрасно задуманную программу. То уточняли способ изложения задачи, то меняли очередность и степень включения в работу эвристик. И все время сопоставляли действия ЛЮБОЗАРа с решениями людей. Тем не менее они не добились полного успеха. Человеческое мышление ускользнуло из ловушки.
Нашей жизни теоремы
Скоро мыслию по древу
Будут соки растекаться.
Скоро, скоро! Потерпите,
Не спешите разбегаться.
В. Л. Соколов
Попробуем отказаться от ненадежной психологии в пользу строгой математики. Превратим жизненные проблемы в теоремы. Может быть, на этом пути удастся создать подлинный решатель любых задач?
Там, в геометрии, фигуры подчинены строгим законам; каков бы ни был треугольник, маленький или большой, равносторонний или разносторонний, подтянуто-прямоугольный или небрежно-тупоугольный, - в любом треугольнике сумма внутренних углов составляет 180 градусов. Видимо, и в житейской суете, в столкновении наших мыслей тоже возникают фигуры, тоже обозначаются углы, подвластные своим теоремам.
Я помню, какое сильное впечатление на меня, школьника, случайно прочитавшего томик философа Спинозы, произвела эта неожиданная и дерзкая идея. Мне казалось, что он отлил в строгие формы теорем не только наши мысли, но и душевные движения, но и эмоции, но и страсти - любовь и ненависть, дружбу и вражду, симпатии и антипатии. Противоречивые, хаотические, смутные, неуловимые, они приобрели под его пером изящную логическую форму: если... то... иначе...
"Если мы воображаем, что кто-либо причиняет удовольствие предмету, который мы ненавидим, то мы будем и его ненавидеть. Наоборот, если мы воображаем, что он причиняет этому предмету неудовольствие, мы будем любить его".
Ах, как славно теоремы Спинозы вписывались в школьные ситуации, как странно и неожиданно переплетались они со школьными уроками геометрии! Значительно позже, уже занимаясь вычислительными машинами, я осознал, что Спиноза в тех теоремах вовсе не создал исчисление эмоций. Для своих идей он выбрал внешнюю форму теорем, как выбирает поэт форму сонета или баллады.
И все же... Все же мысль обратить описания жизненных ситуаций в теоремы слишком соблазнительна, чтобы отказаться от нее. Максимы Спинозы логичны; и не в отсутствии логики их слабость. Их беда в другом. Изложенные на естественном, непринужденном, многоликом языке, они, увы, недоступны вычислительным машинам.
Совсем не таковы задачи, решаемые ЛЮБОЗАРом. Здесь условия заданы на однозначном языке математики, в виде формул исчисления предикатов. Искомая цель тоже предикатная запись. И, значит, есть "дано", есть "требуется доказать", есть настоящие теоремы.
Есть теоремы, нужен метод машинного их доказательства, алгоритм, способный доказать или опровергнуть любую теорему в узком исчислении предикатов. Такой алгоритм придуман недавно, и опробован, и работает безупречно. Он называется "метод резолюции".
Слово "резолюция" используется нами обычно в двух близких друг другу смыслах. Первый смысл хорошо выражен во фразе: "Собрание приняло резолюцию"; значит, не просто поговорили и разорились, а выработали коллективное решение.
Второй смысл слова "резолюция" очевиден из предложения: "На моем заявлении начальник наложил резолюцию". Здесь "резолюция" - заключение ответственного лица, она и короче коллективной резолюции, и касается более узкого вопроса. В обоих случаях русское слово "резолюция" означает нечто законченное, готовое, продукт решения.
В латинском корне этого слова скрыт не только результат, но и действие, содержится процесс решения задачи, ход разрешения трудностей, последовательность получения заключений.
Резолюция в Искинте - это приспособленный к машине, подогнанный по ее мерке порядок логических решений, маршрут движения от исходных логических понятий к конечным выводам. Столбиками, отметками на маршруте являются резольвенты. Каждая из них извлекается из двух посылок; ее можно сравнить с общим знаменателем двух дробей или с касательной к двум окружностям, или со сплавом двух металлов, с бронзой времен Фидия и Аристотеля.
Аристотель имеет к резолюции и к резольвентам самое непосредственное отношение, ибо они дальние потомки аристотелевских умозаключений (силлогизмов). Помните знаменитое умозаключение: "Все люди смертны. Сократ - человек. Следовательно, Сократ смертен". Аристотель исследовал законы подобных умозаключений и предложил правила, по которым проверяется добротность силлогизма, выявляются скрытые ошибки, облегчается ведение споров.
Аристотелевские умозаключения (силлогизмы)
У силлогизмов оказалась странная судьба. Нет, их не забыли навсегда после смерти Аристотеля. Наоборот, средневековые ученые всячески их лелеяли и развивали, обогащали тысячами примеров и контрпримеров, перекладывали в стихи, чтобы облегчить запоминание студентам. Средневековый студент давал только клятву, что выучил арифметику и геометрию, а по силлогизмам был жестокий экзамен; тут клятве не верили - требовали безупречных знаний.
В средневековой науке силлогизмы заняли королевское место. Их познание и применение, чаще всего в богословских спорах, вытесняло познание природы.
Вот почему ученые нового времени, враги средневековой схоластики, обрушили весь свой сарказм и ненависть на бедные аристотелевские силлогизмы. Для них силлогизмы и пустопорожняя болтовня были синонимами.
Р. Декарт так определил роль силлогизмов: они служат для того, "чтобы говорить без смысла о неизвестных вещах, вместо того чтобы познавать их".
Бесславно ушли силлогизмы с авансцены науки и занимали скромное место в учебниках логики, пока не явилась кибернетика, не извлекла их оттуда, не осветила новым и ярким светом.
Что речь идет о "неизвестных вещах" - беда исправимая. Если начинку для силлогизмов, их посылки готовят не профаны, а серьезные ученые, то в пирог войдут самые новые и достоверные факты опытной науки.
Что речь идет "без смысла", строго формально, так это в определенном смысле даже лучше: только строго формальная диета прописана вычислительной машине; понимать "по смыслу" она не умеет.
Главная беда аристотелевских силлогизмов в другом - в их неподвижности, в ждущем, сторожащем, вахтерском, что ли, характере. Они совсем не ищут новых идей, никак не участвуют в рождении новых мыслей, а служат лишь шаблонами для проверки готовых умозаключений: это по мерке, а это нет. Мертвые слепки вместо живых, переменчивых, развивающихся решений.
Придать силлогизмам движение, энергию, рыцарскую храбрость хотел дерзкий и несчастный Раймунд Луллий.
Почти до 30 лет Р. Луллий был придворным у арагонского короля Иакова, сочинял неплохие стихи, ухаживал за дамами. В 1263 году приключилась с ним памятная история.
Верхом он преследовал очаровательную молодую женщину, отпуская в ее адрес веселые и нескромные комплименты. Женщина шла в церковь, а Р. Луллий настолько увлекся, что въехал в храм вслед за нею на коне. Дама с негодованием остановила рыцаря и сказала:
- Вы хотите видеть мою грудь, которой посвятили столько красочных эпитетов в своих сонетах? Ну что же, я могу доставить вам это удовольствие!
И женщина сбросила мантилью. Грудь ее оказалась пораженной кровоточащими язвами.
Р. Луллий испытал страшное потрясение. Он отказался от светских удовольствий и ушел в монахи, чтобы стать ученым, чтобы изобрести лекарство против всех человеческих недугов.
В тиши монастыря он понял, что изобретение универсального лекарства в высшей степени богоугодное дело, но еще важнее изобрести всеобщие приемы изобретения любых вещей, единые способы получения новых знаний.