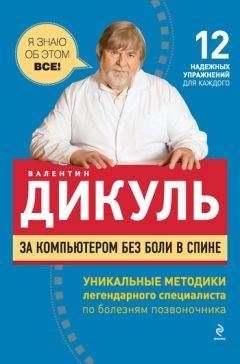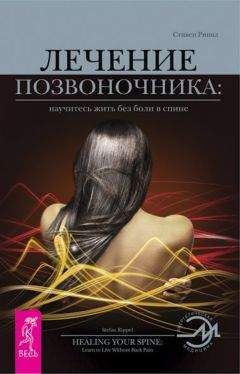Евгений Добренко - История русской литературной критики
«Кремлевская критика» в обновленном составе вела себя, как и при власти Троцкого: миловала, казнила, защищала — исходя из задач все того же текущего момента. О том, что идеологические параметры культурной политики остались прежними, свидетельствуют многочисленные выступления 1925–1927 годов члена Политбюро Н. Бухарина, с 1926-го — одного из главных партийных критиков лозунга «перманентной революции». Внутрипартийная борьба, исход которой, кстати, оставался неясным до конца 1927 года, накалила и литературно-критические споры. Критическое противостояние Воронского и Авербаха, нового лидера напостовства, происходит теперь только в фельетонном партийно-журналистском стиле. Летом 1927-го противники Воронского праздновали победу: «Воронский Карфаген» (Л. Авербах) был повержен, Воронский был отстранен от руководства «Красной новью». Партийными разборками пронизаны литературные обсуждения с участием членов ЦК и правительства. Такова история публикации в 1926 году «Повести непогашенной луны» Б. Пильняка, за которой последовала серия дознаний и принятие Политбюро специального постановления о повести, о «попутчике» Пильняке, о сменовеховском журнале «Новая Россия» и об «ответственности» за все это Воронского[233].
Связка Троцкий — Воронский освещает бурный поток литературно-политических дискуссий конца 1926 — начала 1927 года о хулиганстве, «половом вопросе», разложении комсомольцев и облике комсомольской литературы; всплеск шовинистических и антисемитских настроений в стране Бухарин ставит в прямую зависимость от недооцененных «правых опасностей» в среде русской интеллигенции и современной литературе[234]. 19 сентября 1926 года на страницах «Правды» и «Комсомольской правды» появляется статья известного партийного публициста Льва Сосновского «Развенчайте хулиганство», с которой начинается кампания борьбы с покровителями Есенина и «есенинщиной». По своему масштабу есенинская критическая кампания, идущая параллельно булгаковской, превзошла последнюю, так как была выведена в широкие контексты низовой массовой жизни (статья Бухарина «Злые заметки» в «Правде» от 12 января 1927). Есенинский вопрос свидетельствовал о векторе радикализации идеологии, а открытые трибуны для обсуждения критикой и широкой общественностью есенинской темы некоторым образом давали реальную картину общественного сознания. Можно сказать, что через литературную критику опробовался путь возвращения к тактике военного коммунизма в управлении культурой, да и всей крестьянской страной. На то имелась внешняя причина — ожидание войны; эта тема не сходит со страниц газет. Были и причины внутренние: несмотря на то что во всех официальных документах конца 1927 года (окончательный разгром «левой» оппозиции) говорилось о «мирной» смычке города и деревни и о развитии кооперации («Манифест ЦИК», декабрь 1927), нерешенными оставались базовые социальные и продовольственные вопросы; началось сворачивание нэпа; в массовом сознании рубеж 1927–1928 годов напрямую ассоциировался с «настоящим 1920-м годом» (безработица в городах; карательные отряды по изъятию хлеба; антисоветский характер выступлений в деревне против самообложения хозяйств и призывы к восстанию; полный крах школьного образования и здравоохранения).
В «вавилонском критическом столпотворении и празднословии»[235] второго этапа нэпа обнаруживаются и некоторые неожиданные на первый взгляд явления: трибуны «Писатели — о критике» и «Читатели — о современной литературе», которые открываются практически во всех литературных журналах. Итог оказался сокрушительным: в первом случае для критики, во втором — для современной литературы. Никогда более в советскую эпоху писателям не позволяли публично так говорить о критике, как в 1926-м. Досталось всем лагерям: лефовцам, напостовцам, марксистам, перевальцам, формалистам, «балующимся» критикой партийцам[236]. Отношение писателя к критике колоритно описано И. Оксеновым:
С точки зрения писателя положение приблизительно рисуется так. Если бы напал вдруг мор на критиков и вымерли бы все до единого — туда им и дорога. Ни один писатель не прольет над их прахом ни слезы. Еще вобьет в их могилы осиновые колы. И правильно. Не нужна писателю критика[237].
Не менее анархичен, чем писатель, оказался массовый читатель, ставший в эти годы едва ли не главной метафигурой критических баталий. Оказалось, что реальный читатель советской России современной литературой почти не интересуется, предпочитая ей старую русскую классику. И совсем уж равнодушен этот персонаж к литературно-критической борьбе. «Надо читателя ориентировать — и ориентировать немедленно»[238], — призывал в 1926 году перевалец А. Лежнев. Подобные призывы шли и из лагерей оппонентов. Усилия Наркомпроса по продвижению «новой книги» (различные культпоходы и работа общества «Книга — в массы», суды над «нечитателями») существенных результатов в изменении читательских пристрастий пока не принесли. Разрушенная почти до оснований в годы нэпа школа также еще не «наштамповала» новых читателей. Информация, полученная к 1927 году, по настроениям в писательской и читательской среде, безусловно, послужила принятию решения об издании еженедельника «Читатель и писатель», первый номер которого выйдет в декабре 1927 года. Казалось бы, издание (с таким-то названием) могло радикально исправить сложившуюся ситуацию в отношениях новой литературы и критики, писателя и массового читателя. Однако уже сами формулировки задач нового «массового органа» (сблизить писателя с читателем; помогать «массам» разбираться в отображаемых литературой жизненных явлениях; «ставить всякое политическое и общественное уродство в литературе (богемщину, халтуру) под обстрел жесточайшей критики»; «давать доступные, краткие, но толковые обзоры новинок литературы»[239]) исключали какие-либо иллюзии. Кто будет решать весь комплекс поставленных задач «смычки» современной литературы и массового читателя? Вопрос риторический. Конечно, критика, ибо только она обладает, как указано в постановлении 1925 года, «идейным превосходством» — по отношению к писателю и массовому читателю.
2. «…сюжет или идеология?»:
Критики-серапионы в литературно-политической борьбе первого периода нэпа
Литературно-критическое наследие «Серапионовых братьев» невелико, однако занимает особое место в литературно-критических баталиях первого периода нэпа. У группы были свой теоретик — профессиональный филолог Лев Лунц и критик Илья Груздев; с литературно-критическими статьями и рецензиями выступали Николай Никитин, Вениамин Каверин (также профессиональный филолог) и Константин Федин, один из редакторов петроградского журнала критики «Книга и революция», где «серапионы» печатались в 1920–1923 годах. Критические эссе о русской литературе первых двух десятилетий XX века писал Михаил Зощенко[240].
Критиками-серапионами была спровоцирована бурная полемика по вопросам идеологии и литературы и открыта дискуссия о сюжете и авантюрной литературе. На обоих выступлениях лежала печать диссидентства, политического и литературного.
Как литературная группа они заявили о себе в начале 1922 года, когда шел погром старого литературного Петербурга и партийная критика прикладывала немалые усилия, стремясь «хлыстом» и пряником оторвать литературный молодняк от «стариков»-«белогвардейцев». На серапионах обкатывалась испытанная большевистская тактика раскола и внедрения вируса борьбы в стан противника (именно противником оставалась для партии петербургская литературная среда). Они могли, кажется, и промолчать, и не отвечать на бранные рецензии в адрес «Петербургского сборника», в котором некоторые из серапионов (М. Зощенко, М. Слонимский, К. Федин, Н. Тихонов, Вс. Иванов) публиковались вместе с маститыми петербургскими поэтами и прозаиками. Но они ответили публично: всесильному зав. Отделом печати ЦК Яковлеву (он требовал ответа на вопрос, каким образом молодые писатели оказались в «лагере белых собак»[241]), но главным образом — поэту-коммунисту Сергею Городецкому[242]. «Ответ Серапионовых братьев Сергею Городецкому» появился на страницах петроградской газеты «Жизнь искусства» (28 марта) и первого номера сменовеховского журнала «Новая Россия». Это, по сути дела, первый манифест серапионов. Они заявили о себе как об «органической группе», дезавуировав пожелания их оппонентов, чтобы «зелень» отреклась от «плесени» — «остальной части петербургской литературы». Это во-первых. Во-вторых, именно в этом коллективном письме «зелень» не отчитывалась, а эпатажно манифестировала свою аполитичность и дерзко формулировала присокровенные вопросы к власти по поводу идеологии и литературы:


![Сандра Салманс - Боль в спине [Вопросы и ответы]](/uploads/posts/books/201633/201633.jpg)