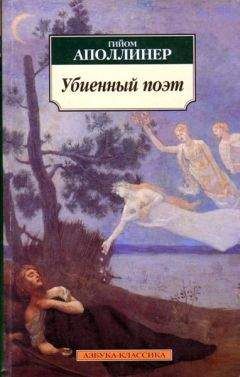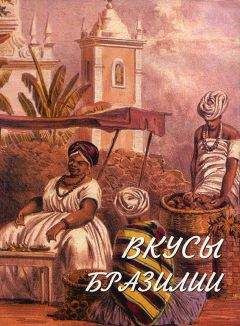Гийом Аполлинер - Т. 2. Ересиарх и К°. Убиенный поэт
Мы замолчали. Зашли в церковь, затем отправились слушать, как отбивают время часы на городской Ратуше. Смерть, дергая за веревку, звонила, кивая головой. Другие скульптуры тоже были приведены в движение, петух в это время бил крыльями, а в распахнутом оконце по очереди появлялись Двенадцать апостолов и бесстрастно взирали на улицу. Посетив скорбную тюрьму, что называется «Шбинска», мы прошли через еврейский квартал с развалами поношенной одежды, железного лома и прочего хлама, которому нет названия. Мясники рубили коровьи туши. Обгоняли друг дружку обутые в сапоги женщины. Мимо следовали евреи в трауре, о чем свидетельствовали их разодранные одежды. Ребятня переругивалась между собой по-чешски и на еврейском наречии. Покрыв голову, мы зашли в древнюю синагогу, куда для женщин вход во время служб категорически закрыт, и они смотрят службу из окошка. Похожа эта синагога на могилу, где почиет под покровом старый пергаментный свиток — восхитительная Тора. Затем Лакедем выяснил по часам на еврейской Ратуше, что наступило три часа пополудни. Цифры на часах этих еврейские, и стрелки движутся наоборот. По Карлову мосту, откуда тайный узник Концессии святой Иоанн Непомук был сброшен в реку{8}, мы перешли Влтаву. С этого украшенного благочестивыми статуями моста открывается восхитительный вид на реку и на всю Прагу с ее церквями и монастырями.
Перед нами возвышались Градчаны. И пока мы поднимались наверх между особняками, беседа наша возобновилась.
— Я был уверен, — признался я, — что вы не существуете. Мне казалось, что легенда о вас — это всего лишь символ вашей нации, которая не может найти себе пристанища. Мне, сударь, нравятся евреи. Они восхитительно суетливы, и от этого все несчастья… Итак, это правда, что Иисус прогнал вас?
— Правда, но не будем об этом. Я привык к своей бесконечной жизни без сна и отдыха. Я ведь так и не сплю. Я непрестанно иду и не остановлюсь, пока не будут явлены пятнадцать знамений Страшного суда{9}. Но крестный путь мне заказан, мои дороги — счастливые. Бессмертный и единственный очевидец присутствия Христа на земле, я свидетельствую перед людьми о реальности Божественной и искупительной драмы, разыгравшейся на Голгофе. То-то слава! То-то радость! И вот уже девятнадцать веков я смотрю на род людской, который доставляет мне восхитительные развлечения. Грех мой, сударь, был грехом гениальным, и давным-давно я перестал в нем раскаиваться.
Лакедем замолчал. Мы посетили королевский замок на Градчанах с величественными и разоренными залами, потом собор, где находятся королевские могилы и серебряная рака святого Непомука. В часовне, где короновались богемские короли и святой король Вацлав принял мученическую смерть{10}, Лакедем обратил мое внимание на то, что стены ее украшены геммами — агатом и аметистом. Указав на одну аметистовую гемму, он произнес:
— Взгляните, в центре прожилки сплетаются в портрет с пылающими и безумными глазами. Считается, что это маска Наполеона.
— Да это же мое лицо, — воскликнул я. — Те же темные и завистливые глаза!
И это была правда. Он так там и есть, мой страдальческий лик рядом с бронзовой дверью, с которой свисает кольцо — за него держался святой Вацлав, когда его убивали. Мы вышли. Я был бледен и несчастен — я видел себя безумным, это я-то, кто так боится сойти с ума!
— Хватит с нас памятников, — сказал мне в утешение жалостливый Лакедем, — пройдемся по улицам. Посмотрите-ка хорошенько на Прагу. Гумбольдт утверждает, что это один из самых интересных европейских городов.
— Значит, вы нет-нет да читаете?
— О, иногда, на ходу, хорошие книги… И… вы будете смеяться! Но я иногда и любовью ухитряюсь заниматься!
— Как! Вы любите и никогда не испытываете ревности?
— Мои мимолетные любовные интрижки стоят любви навек. Но, к счастью, вдогонку мне никто не идет, а на привязанность, которая и рождает ревность, у меня нет времени. Бросьте, хватит грустить! Не бойтесь ни будущего, ни смерти. Никогда нет уверенности, что умрешь. Неужели вы думаете, что бессмертен один я? Вспомните об Енохе, Илие, Эмпедокле, Аполлонии Тианском{11}. Да и разве не найдется на земле человека, который не верил бы, что Наполеон по-прежнему жив? А этот несчастный баварский король, Людвиг Второй?{12} Спросите у баварцев. Все подтвердят, что их великолепный и безумный король все еще жив. Да и вы сами, может статься, не умрете.
* * *Сгущались сумерки, и в городе зажигались огни. Мы вновь перешли Влтаву по более современному мосту.
— Пора бы и пообедать, — заявил Лакедем, — от ходьбы разгорается аппетит, а я — знатный едок.
Мы зашли в таверну, откуда доносилась музыка.
Там был скрипач, мужчина с бубном, большим барабаном и треугольником, третий же играл на чем-то вроде фисгармонии с двумя небольшими клавиатурами, поставленными на мехи одна над другой. Эта троица музыкантов производила чертовский грохот и служила отменным аккомпанементом к гуляшу с паприкой, жареному картофелю в тминном соусе, маковым хлебцам и горькому пльзенскому пиву, которое было нам подано. Лакедем так и не присел, ел он, расхаживая по залу. Музыканты сначала играли, потом собирали деньги. Тем временем зал наполнился гортанными голосами посетителей — все они были круглоголовыми богемцами с широкими лицами и курносыми носами. Лакедем безбоязненно вступал в беседы. Я заметил, что он показывает на меня. Меня принялись разглядывать, кто-то подошел пожать мне руку и сказать: «Здравие Франции!»
Музыка грянула Марсельезу. Мало-помалу таверна заполнялась народом. Среди посетителей появились женщины. Начались танцы. Лакедем схватил хорошенькую хозяйскую дочку, и я развлекался, глядя на них. Оба они танцевали как ангелы, если верить Талмуду, который называет ангелов мастерами танца. Вдруг Лакедем обхватил руками танцорку, поднял ее и снискал таким образом аплодисменты. Когда девушка снова обрела землю под ногами, выглядела она серьезной и чуть дышала. Партнер наградил ее звонким, юношески сочным поцелуем. Лакедем захотел расплатиться за обед, что ввело его в расход на один флорин. Для этого он вытащил кошелек, точно такой же, как был у Фортунатуса, в кошельке которого никогда не переводились легендарные пять су{13}.
* * *Мы вышли из трактира и пересекли большую прямоугольную площадь, которая зовется Вензельплац, Виехмаркт, Россмаркт или Вацлавской площадью. Было десять вечера. Под зажженными фонарями бродили женщины, которые, стоило нам с ними поравняться, шептали нам по-чешски слова приглашения. Лакедем увлек меня в еврейские кварталы.
— Вот увидите, — говорил он, — на ночь здесь каждый дом превращается в вертеп.
Он не солгал. У каждой двери стояла или сидела, накинув на голову шаль, какая-нибудь матрона и бормотала призывы к ночной любви. Вдруг Лакедем произнес:
— Хотите зайти в квартал Королевских виноградников? Там попадаются четырнадцати-пятнадцатилетние девчонки, которыми не побрезгуют и заядлые ходоки.
Я отклонил это заманчивое предложение. В ближайшем доме мы выпили венгерского вина в компании немок, венгерок и уроженок Богемии, — все они были в пеньюарах. Праздник приобретал привкус скабрезности, но я не высказал слов осуждения.
Лакедем моей сдержанности не оценил. Он выбрал задастую тетеху-венгерку. Девице старик внушал страх, но вскоре, расстегнув штаны, он потащил ее за собой. Его обрезанный член напоминал узловатый ствол или этакий размалеванный индийский столб, пестрящий сиенской охрой и пурпуром, переходящим в темно-фиолетовый цвет грозового неба. Через четверть часа они вернулись. Девица была испугана, но утомлена любовью и кричала по-немецки:
— Он не переставая ходил, он ходил не переставая!
* * *Лакедем хохотал; мы расплатились и вышли.
— Девицей этой я остался весьма доволен, — сказал он, — а меня редко кто удовлетворяет. Подобное наслаждение я испытал разве что в Форли в тысяча двести шестьдесят седьмом, когда имел дело с одной девственницей. Еще раз я познал счастье в Сиене, не знаю уже в каком году четырнадцатого столетия, с одной замужней «Форнариной»{14}, у которой волосы были золотые, как корочка на хлебце. В тысяча пятьсот сорок втором в Гамбурге я так влюбился, что отправился босиком в церковь возносить тщетные молитвы Господу, чтобы он простил меня и даровал разрешение остановиться. В тот день во время проповеди студент Пауль фон Эйтцен, который впоследствии стал епископом Шлезвигским{15}, узнал меня и заговорил со мной. Позже он рассказал об этом своему ученику Хризостому Дедалусу, который напечатал эту историю в тысяча пятьсот шестьдесят четвертом.
— Вот это жизнь! — воскликнул я.