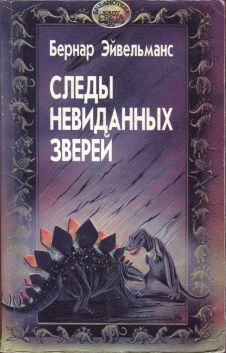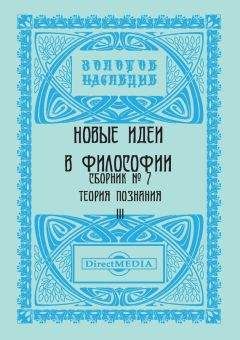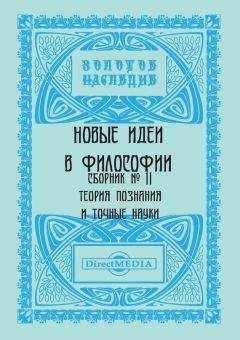Коллектив авторов - Новые идеи в философии. Сборник номер 10
Теперь мы должны перейти к высшему типу животных, – к животным позвоночным, заключительным звеном которых является человек, и посмотреть, как обстоит дело в этом отношении у них. Отрицание разумности даже у наиболее высоко стоящих беспозвоночных вроде насекомых, конечно, ровно ничего не говорит о том, присущ разум позвоночным животным или нет: здесь a priori возможно как то же самое положение вещей, так и диаметрально противоположные отношения. Чтобы сократить рассмотрение этого вопроса, мы оставим и здесь психику низших позвоночных совершенно в стороне и остановимся, главным образом, на их высшем классе, именно, на млекопитающих.
Казалось бы, наличность разума у млекопитающих не может возбуждать ни у кого никаких сомнений, так как многочисленные данные этого рода из жизни собак, лошадей и других близких к человеку животных известны каждому. Дело, однако, в действительности обстоит далеко не так. Правда, в произведениях многих, даже известных специалистов постоянно можно найти указания, что разумные способности у этих животных, несомненно, существуют и притом в форме, довольно близкой к человеческому разуму. Однако, утверждение это теряет свою несомненность, если мы обратимся к опытам, поставленным специально для выяснения этого вопроса, а также к более точным наблюдениям. Особенно интересны в этом отношении опыты целого ряда американских исследователей, – Торндайка, Хобхуза, Киннемана, произведенные, главным образом, над обезьянами.
Несмотря на всю человекоподобность поведения последних, внимательное изучение его привело трех названных исследователей к почти единодушному заключению, что у обезьян можно говорить лишь о тех или иных ассоциациях по смежности или по сходству, а отнюдь не об истинных умозаключениях. «Относительно обезьян, точно так же, как и относительно остальных млекопитающих, мы имеем положительные доказательства в пользу отсутствия у них какой бы то ни было общей мыслительной способности», пишет, например, Торндайк5.
Приблизительно к такому же заключению пришел на основании целого ряда опытов и Морган относительно собак: он находит, что и у них совершенно отсутствует мыслительная способность.
Довольно подробно разобран вопрос о разумности позвоночных животных в недавно появившейся книге нашего русского зоопсихолога Вл. Вагнера6. Он считает, что последние, в отличие от беспозвоночных, не лишены элементов разумных способностей, именно, памяти и способности к ассоциациям. Память у всех представителей позвоночных идентична с памятью человека и принципиально отлична от инстинктивной памяти беспозвоночных. Ассоциации у млекопитающих и птиц также, несомненно, имеют место, но лишь постольку, поскольку речь идет об ассоциации действия с предметом и действия с действием: ассоциации же по сходству у животных не могут считаться доказанными. Переходя к высшим разумным способностям (целепонимание, умозаключение, абстракция), Вл. Вагнер, однако, категорически отказывается признать их существование у кого-нибудь даже из наиболее высоко организованных позвоночных и считает их присущими лишь человеку. – Таким образом, он в общем сходится во взглядах с вышеупомянутыми американскими исследователями. Правда, разумная способность в ее наиболее элементарной форме не отрицается им у животных совершенно, но, во всяком случае, вводится в очень тесные рамки.
Наиболее ярым противником разумности каких бы то ни было животных, все равно, будут ли это существа более низко организованные вроде насекомых или же высшие представители типа позвоночных (за исключением, конечно, человека), является Васман. Разбору этого вопроса посвящена одна из его более крупных работ «Instinkt und Intelligenz im Tierreich»7, где собраны как все имеющаяся по этому вопросу литературные данные, так дано и освещение его с более общей точки зрения. Как бы ни относиться к мировоззрению самого Васмана, являющегося не только крупным биологом и зоопсихологом, но и сторонником чисто теологического взгляда на вещи, с его книгой приходится очень считаться.
Нельзя не отметить, что к вопросу о разумности животных, особенно у защитников его положительного решения, примешивается нередко еще один элемент, именно, опасение, чтобы, отвергнув разумные способности даже у высших позвоночных, не сойти с строго эволюционной точки зрения. Мы знаем, что, как выразился Дарвин, человек обязан своим существованием длинному ряду предков; мы знаем затем, что все его особенности произошли от других особенностей, бывших в свое время у наших животных предков. Значит – нередко делают вывод – разумность человека могла произойти лишь из чего-нибудь подобного же ей у существ, стоявших на более низкой ступени развития – следовательно, разумные способности должны быть хотя бы у высших животных.
Однако, прошло уже время, когда старинное изречение «natura non facit saltus» являлось своего рода «золотым правилом» биологии. С появлением на сцену мутационной теории де-Фриза, с возникновением так называемого учения о свойствах, взгляд на эти вещи сильно изменился, и теперь даже сторонники существования медленных и постепенных изменений не отрицают, что во многих случаях новые свойства, новые особенности возникали, вероятно, внезапно, без всяких переходов, путем скачка. А если это так, то нет ничего невозможного в том, что яркая искра разума могла зародиться у предков современного человека без каких бы то ни было переходов, совершенно внезапно. Следовательно, мы можем решать вопрос о разумности животных совершенно объективно и спокойно, без каких бы то ни было предвзятых мыслей и без опасения, что в случае отрицательного ответа на него мы будем немедленно взяты под подозрение «в неблагонадежности по эволюционной части».
Так или иначе, можем ли мы теперь категорически ответить на вопрос, присуща ли разумность одному человеку или же он разделяет ее с высшими представителями царства животных? Пожалуй, благоразумнее будет воздержаться от этого и оставить вопрос о разумных способностях животных на некоторое время под сомнением, хотя (как кажется, в частности, пишущему эти строки) то, что мы уже знаем теперь, скорее говорит против разумности в животном царстве, чем за нее, особенно если понимать под разумом не только его элементы вроде памяти или простейших ассоциаций, а брать это понятие в той форме, которая присуща человеку.
Как бы то ни было, центр тяжести зоопсихологии лежит отнюдь не в изучении разумных способностей животных, а совсем в другом, именно, в исследовании животных инстинктов, так как психология животных, даже наиболее высших, есть психология инстинктов по преимуществу.
Мы сказали – инстинктов, но ведь одними разумными актами и инстинктами не исчерпывается вся психика человека: если оставить совершенно в стороне его высшие, волевые и сознательные психические акты, то все же среди низших, автоматических и бессознательных актов мы имеем, помимо деятельности инстинктивной, еще обширное количество рефлексов. – Каково же значение актов чисто рефлекторных в психике животных и нельзя ли свести последнюю, по крайней мере, у низших форм на одни рефлексы без всякого участия инстинктов?
Что жизнь наиболее низко организованных животных состоит, быть может, из одних рефлексов, при том рефлексов довольно простых, это в общем довольно вероятно. Однако, существует целое направление, старающееся свести к рефлекторным актам жизнь даже более высокоорганизованных животных вплоть до насекомых и даже позвоночных, при чем сторонники этого взгляда рассматривают инстинкты лишь как более сложные рефлексы.
Основателем и самым видным представителем этого направления является один из крупнейших американских биологов Жак Леб8. – В свое время этим исследователем совместно со многими другими была разработана так называемая теория тропизмов, согласно которой движения одноклеточных организмов, точно так же, как и растений, объясняются на почве раздражимости или чувствительности, т. е. способности реагировать на те или иные воздействия внешнего мира. Под влиянием тепла возникает движете к нему или от него – положительный или отрицательный термотропизм, под влиянием света возникает подобный же фототропизм или гелиотропизм, сила тяжести служит источником геотропизма и т. д. Не останавливаясь на этой теории и приложимости того толкования, которое дает Леб, даже к простейшим, отметим лишь, что он переносит ее целиком и на высших многоклеточных животных.
Стремление многих животных, например, к свету, по Лебу, есть не что иное, как тот же гелиотропизм, который управляет движениями головки подсолнечника; выползание гусениц одной из бабочек (златогузки) весной на вершину дерева, где они находят первую пищу в виде молодых почек, он обозначает, как положительный гелиотропизм, сохраняющийся у гусениц лишь до тех пор, покуда они голодны. Совершенно подобным же образом ряд сложных инстинктов животных, заставляющих их отыскивать пищу, является, по Лебу, не более, как хемотропизмом, т. е. стремлением к известным химически действующим на протоплазму веществам, и по существу мало отличным от того хемотропизма, под влиянием которого белые кровяные шарики поедают бактерий. Охватыванье самки самцом во время полового акта есть частный случай стереотропизма, т.е. стремления приводить свое тело в соприкосновение с твердыми телами, и т. д. и т. д.