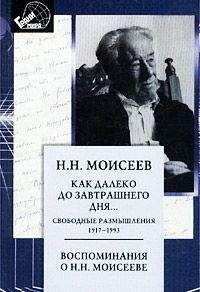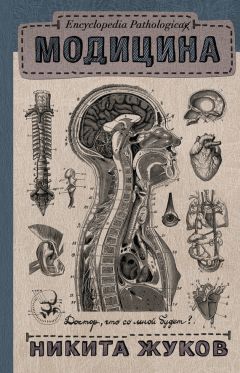Никита Благовещенский - Расчленение Кафки
Выбор в данном случае весьма индивидуальный и, казалось бы, случайный. Но результат налицо, даже при условии явной незаконченности проекта, где не хватает контрольного анализа выплесков массовой динамики бессознательного в культовых реакциях (к примеру, на кинофильмы как модели искусственных сновидений). Там, где нет контрольного анализа, там нет и обоснованных выводов. И их у Никиты нет. Сегодня мы просто не можем судить почему. Возможно, он просто не успел их сформулировать. А скорее всего, он сознательно создавал открытую систему, где выводы не очевидны, а результативны, где есть форма для размышлений, для самопознания и трансформации, есть система защитных рационализаций, своего рода путеводных камней в виде цитируемых им основоположений, а вот содержание переживания и творческого инсайта каждый читатель привносит от себя и уносит с собой.
Можно даже сказать, что сегодня и сами работы, сами мысли Никиты стали одним из таких вот путеводных камней. Для кого-то, возможно, это будет краеугольный камень его саморазвития, для кого-то — одна из вешек, обозначающая проторенные пути в решении парадоксальной задачи познания бессознательного, а кого-то и отпугнет, отвратит от повторения избранного автором пути.
Ведь его личностный выбор ухода в зазеркалье бессознательного через анализ отражений последнего в творчестве Франца Кафки и Венечки Ерофеева окончился трагично. Но он разбил очередную зеркальную стену, препятствующую нашему соприкосновению с истинной реальностью бессознательного. И мы знаем теперь, что возможно сделать еще один шаг в великом походе; шаг, который мы делаем по следам героя.
А герой останется в памяти. Останется, чтобы побуждать следующие поколения исследователей на продолжение экспансии и приближение к великим целям, ради реализации которых и было основано психоаналитическое движение (во всех смыслах этого слова).
В. А. Медведев, директор Санкт-Петербургского гуманитарного института, председатель правления Всероссийской ассоциации прикладного психоанализаЧасть 1. Расчленение Кафки
Глава 1. Русский Кафка
Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью!
Полагаем, что следует объясниться, с чего это нас потянуло психоанализировать и интерпретировать Франца Кафку? Своих проблем нам что ли не достает? Да и своих русских авторов? Одни Пушкин с Гоголем чего стоят! А еще Федор Михайлович Достоевский, царство ему небесное. А тут вдруг какой-то Кафка. Мало того, что чешский австрияк, так еще национальности по российским понятиям какой-то сомнительной.
Можно, конечно, ограничиться ответом, что он нам просто нравится, но, вероятно, такой ответ просвещенную публику абсолютно не удовлетворит. Поэтому мы ответим, что вы не правы господа, совершенно не правы! Во-первых, провоцируют подвергнуть Кафку психоанализу поразительные совпадения в биографиях — его и Зигмунда Фрейда. И тот и другой родились в Богемии, и тот и другой происходили из семей евреев-коммерсантов, и тот и другой переехали из Чехии в Вену. Как евреи они были не полностью своими в христианском мире. Как нерелигиозные евреи были не полностью своими среди иудеев. И Фрейд и Кафка весьма сильно интересовались Россией: у Фрейда, как известно, самый любимый пациент — «человек-волк» — был русским, а самым любимым писателем являлся Федор Достоевский; Кафка в дневниках писал, что хотел бы поехать в Россию; с Россией связан и сюжет его рассказа «Приговор». (Карл Густав Юнг, возможно, назвал бы эти совпадения проявлением синхронистичности.)
Во-вторых, мы беремся доказать: мало того, что Франц Кафка совершенно русский писатель, так он еще к тому же и культовый русский писатель, и потому, несомненно, по-особому интересен русскому читателю. В России, так сказать, Кафка — больше чем Кафка. Недаром в эпоху перестройки он и его творчество обыгрывались в фольклорных текстах, что является высшей степенью признания массовой культурой… Но об этом речь впереди.
С другой стороны, Кафка может быть интересен и западному читателю, испытывающему интерес к «русскости», и с этой именно стороны, — читая его произведения, сопереживая его героям, идентифицируясь с ними, — западный читатель, как это ни странно, сможет лучше понять тайники и извивы «загадочной русской души».
Итак, почему Кафка русский, а если более конкретно — советский русский писатель? Да потому что проблемы, им поднимаемые, совершенно синтонны проблемам «совковой» души. Во-первых, сразу бросается в глаза то, что герои Кафки перманентно находятся в состоянии отчужденности, причем отчуждены они как от действительности, их окружающей, так и от своей самости, своей внутренней реальности. Постоянное их чувство — это чувство недоумения: что со мной происходит? Почему? За что? Квинтэссенцией этого недоумения можно считать то, что произошло с Грегором Замзой, героем «Превращения» Кафки, перевоплотившимся нежданно-негаданно в жука. Грегор — ребенок, чье существование в этом мире не было скрашено приятием и любовью «объектами самости»; его родители и сестра говорят о нем безразлично и безлично, в третьем лице — «он»; в результате Грегор и превращается в «него» — в не-человека, в нечто (помните голливудский фильм «The Thing»?), в чудовище, огромное безобразное, опасное (даже в собственных глазах) насекомое. Причем причин этой метаморфозы Кафка не называет, ему и в голову не приходит (так же как и Грегору) искать объяснения. Столь же необъяснимо все, что происходит с героями «Процесса» или «Замка» — так уж устроен мир, ничего не поделаешь.
Вероятно, такое чувство в какой-то степени знакомо всем, живущим в бюрократическом государстве и вынужденным с этим бюрократическим государством, с «бюрократической машиной», общаться. Австро-Венгерская империя, на территории которой жил и творил Кафка, была в этом плане, наверное, ничуть не лучше и не хуже прочих. Может создаться впечатление, что Кафка просто передавал свой личный опыт общения с государством. Но впечатление это ложное. Его современник и соотечественник Густав Майринк творил, например, совсем в ином ключе: он был фантаст и романтик и писал готические романы.
На творческий почерк Кафки наложило отпечаток его общее мироощущение, сформировавшееся, конечно, в раннем детстве. И основа этого мироощущения, повторимся, недоумение и непонимание происходящего. Оно было знакомо Николаю Гоголю и его персонажам. Помните, как горестно вопрошал Акакий Акакиевич коллег-чиновников: «За что вы меня мучаете?» Оно было знакомо и Владимиру Набокову (Александру Лужину и Цинциннату Ц.), и защитой от него была смерть. Но только в сталинской Советской России это мироощущение было доведено до совершенства, до «зияющих высот» и до «кафкианского» отношения к жизни всех и каждого. Человек понятия не имел, когда и за что его «возьмут»; когда он в глазах общества, друзей, близких, родных и своих собственных превратится в мерзкое насекомое — врага народа, диверсанта, отравителя колодцев, агента разведок всех враждебно настроенных государств, внутреннего диверсанта etc. От человека отворачивались все родные и близкие, но — что самое главное — он сам себя начинал оговаривать и чувствовать этим мерзким, гадким насекомым. А в действительности соответствующие органы — «компетентные органы», как они обычно назывались, — просто-напросто выполняли разнарядку, «план по валу»: велено тысячу человек арестовать — арестуем, велено десять тысяч — арестуем десять тысяч. Был бы человек, а статья и приговор найдутся… Даже удивительно, откуда мог заполучить такое восприятие мира Кафка, никогда не живший в России!
Второй особенностью, душевно роднящей Кафку с россиянами, является отсутствие интенции защищаться. Герои Кафки склонны капитулировать. Или, по крайней мере, их попытки защитить, отстоять свои интересы всегда оказываются неадекватными, хаотичными и неумелыми. Они защищаются инфантильно, по-детски, или как люди, впавшие в панику. Они наносят удары своими кулачками, зажмурив глаза, наугад, в пустоту, или замирают в оцепенении.
Точно так же ведут себя русские, попавшие в «кафкианскую» ситуацию: не сопротивляются, не защищаются, но цепенеют. Так вели себя практически все фигуранты показательных сталинских процессов, и этот стиль поведения остается в силе по сей день. Вспоминается анекдот времен застоя (а может быть, и более ранний): «Идет партсобрание. С трибуны бодро: „Пришла установка „сверху“ — завтра всем коллективно повеситься!“ Тут же робкий голос: „А веревку и мыло с собой приносить? Или раздавать будут?“» Не правда ли, очень похоже на Георга Бендемана, по приговору отца без долгих разговоров сразу бросившегося в воду?[1]