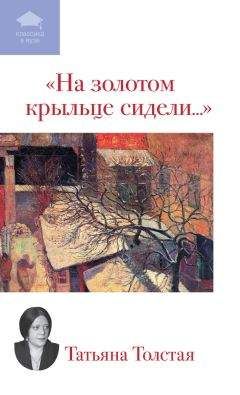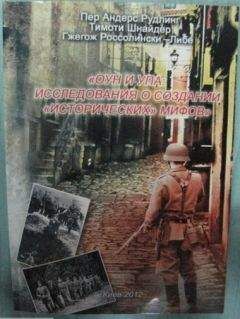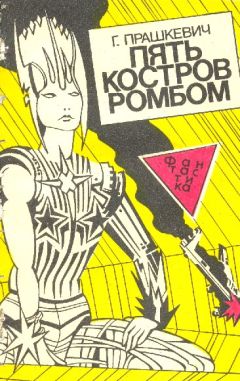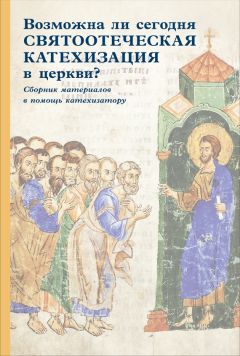Геннадий Обатнин - История и повествование
Мы знаем историков, хотевших стать филологами, как Карло Гинзбург, но мы знаем и филологов, чьи взгляды на историю остро интересуют историков, как Вальтер Беньямин. Самый добротный и классический вариант подхода к тексту, и не только к художественному (это исторический комментарий, взятый не как самоцель, но как основа для реконструкции специфики историзма конкретного автора) — представлен у нас работами Р. Тименчика, С. Доценко и отчасти Т. Никольской. Л. Киселева приоткрывает заднюю дверь в «res gestae», обратив внимание на образование Николая I. В ситуации, когда политика — и внешняя и внутренняя — была столь тесно связана с личностью одного человека, этот вопрос может быть ключевым. Имя Ю. М. Лотмана появляется здесь закономерно — не только потому, что сборник, как было сказано, продолжает серию совместных тартуско-хельсинкских встреч, начатых еще при жизни ученого, но и потому, что без лотмановской перспективы обсуждать нашу тему просто несерьезно. Серьезное же обращение к его идеям в нынешний момент не предполагает преклонения. Лотман присутствует не как покойный классик, но как живой равноправный собеседник, чьи идеи по-прежнему привлекают (статья Е. Григорьевой), или тревожат (статья А. Зорина), или вдохновляют (статья Т. Смоляровой), — в любом из этих случаев сохраняя актуальность. Кто не знает его классических идей о начале и конце текста как его структурных образующих? В почти что случайно возникшем на этих страницах виртуальном диалоге между Данто и Уайтом Лотману есть что добавить: ведь миф есть, нарратив о начале и фрагмент есть нарратив о незавершенности, а повествование о событии может тяготеть то к одному, то к другому полюсу. Статья М. Безродного, публикуемая в нашем сборнике, — сама по себе запоминающийся пример эллиптического нарратива. Данто рассмотрел свои «нарративные высказывания» в аспекте применимости их для некоей абстрактной Идеальной Хроники, но и Лотман задавался вопросом о поэтике летописного свидетельства — почему в летописях так много обозначенных, но незаполненных погодных записей? Как известно, Лотману это позволило поставить вопрос о том, что считалось достойным записывания, но и Уайт интерпретировал события из ряда заполненных в анналах дат в качестве знаковых, служащих означающим для дат пустых, когда ничего важного с точки зрения символических сюжетов не случалось[8]. Рассказ об истории оказывается связанным с божественной легитимизацией событий или, если бросить взгляд далее, вплоть до Гегеля, с их авторитетностью, какие бы облики она ни принимала.
Разумеется, отбор — это метод не только летописи, но и других текстуальных свидетельств, дневника и мемуара. С ней связана тема (авто)биографии как нарратива, в ее социологическом (Д. Калугин) или феноменологическом (А. Зорин) аспектах. Б. Колоницкий изучает биографию не как текст, но как нарратив: не имея одного письменного варианта, будучи рассыпанной по разным текстам, иногда совершенно различной прагматики, биография Керенского как «вождя революции» обладает рядом характеристик, столь знакомых по образам советских партийных деятелей более позднего периода. Адмирал Шишков, подобно византийской царевне, составившей Библию из гомеровских фраз, как мы узнаем из статьи В. Парсамова, сочиняет «связное повествование о войне», представляющее собой центон из ветхозаветных текстов. Чужой текст можно сделать своим, не только по-новому перекомпоновав, но и произнеся его как свой: так поступает Ремизов, чье поведение проанализировано в статье И. Даниловой.
Ремизовский жест ставит проблему границ художественного и документального повествования. Работа П. Йенсена, несмотря на свои как будто классически-нарратологические рамки, будит мысль: действительно, не рождается ли фикциональность, когда появляется рассказ от третьего лица? Для русского материала здесь классическим примером для анализа были бы «Записки» Г. Державина, автобиография, написанная в третьем лице, а для недавнего европейского — например, Р. Барт, который писал в своей знаменитой автобиографической книге фрагментарной прозы о себе преимущественно как о «нем». В свое время нарратологи немало обсуждали проблему литературности в связи с функцией несобственно-прямой речи, и работа П. Тамми — новый вклад в это обсуждение. Документ или квазидокумент, взятый как художественный текст, часто стоял в центре литературных новаций. История одного из понятий, введенных для его легитимизации, очерчена в статье Н. Яковлевой. Работа Т. Смоляровой новаторски связывает текстовые характеристики, центральный образ волшебного фонаря и чувство истории.
Тема «история и повествование» не решена и, слава богу, решена быть не может. Но нам досталось не меньшее, чем ее решение, — вдохновляющее научное общение друг с другом, которое, надеемся, также не закончится.
Андрей Зорин
Понятие «литературного переживания» и конструкция психологического протонарратива
Проблема литературного поведения была поставлена в цикле ставших классическими работ Ю. М. Лотмана[9]. Ученый показал, как те или иные исторические персонажи выстраивают свои жизненные стратегии на основе образцов, почерпнутых в различных литературных жанрах и произведениях. Согласно Лотману, например, Потемкин или Радищев создавали свой собственный образ в соответствии с нормами, предписанными изящной словесностью, и как бы навязывали его окружающим. В свою очередь, аудитория, также хорошо знакомая с теми же текстами, была способна адекватно распознать литературное поведение и сформировать ожидания, порождающие эффект резонанса, который дополнительно структурировал поэтику поведения соответствующей личности. Так проживаемая жизнь строилась и читалась как своего рода текст, обладающий определенным кодом. Лотман проследил эволюцию литературного поведения в России на протяжении второй половины XVIII — начала XIX века, а также предложил типологию культур, основанную на различной степени актуальности литературных образцов для организации бытового поведения образованной части публики.
Эти идеи получили такой уровень признания в гуманитарной науке, что ими, по существу, стало принято оперировать без ссылок на основополагающие работы. Вместе с тем, как это всегда бывает с плодотворными научными концепциями, в этих работах был обойден целый комплекс вопросов, обладающих, на наш взгляд, исключительной историко-культурной значимостью.
Прежде всего остается совершенно неясным, что именно побуждало взрослых и вменяемых людей, вроде Потемкина или Радищева, так демонстративно не различать «литературу» и «реальность» и действовать в самые ответственные моменты своей жизни в соответствии с образцами, почерпнутыми из чужих сочинений. Кроме того, за пределами рассмотрения остается сама механика трансформации словесности в поведение, природа выбора норм для подражания и последующего воспроизводства этих норм в поступках и жизненных решениях. Наконец, не выходя за дисциплинарные рамки семиотики поведения, трудно даже обсуждать вопрос, насколько формирование жизненного текста, обладающего определенной поэтикой, является результатом интенции самого исторического деятеля, или оно вчитано в него современниками и мемуаристами, которые были склонны замечать прежде всего или исключительно то, что укладывается в определенные литературные каноны. Так, скажем, практически невозможно судить, в какой мере маска богатыря из авантюрных романов была элементом сознательного жизнестроительства Потемкина (в обширном корпусе сохранившегося потемкинского эпистолярия она практически не отразилась), а в какой — она была надета на него авторами анекдотов, воспринимавшими поведение светлейшего в соответствии с известными им образцами.
Понятно, что подобные вопросы невозможно обсуждать без обращения к исторической психологии, дисциплине, по существу, табуированной в рамках структурно-семиотических подходов, характерных для московско-тартуской школы.
Такое ограничение в значительной степени было обусловлено опорой этого круга ученых на теоретическое наследие формализма, учившего искать в произведении не отражение психологии автора или, того хуже, героев, но способ поэтической организации материала. В соответствии с этой установкой биографический автор внеположен тексту произведения, а литературный персонаж представляет собой лишь специфический способ прикрепления имени собственного к фиксированному пучку мотивов и сюжетных функций, поэтому говорить об изучении их «психологии» заведомо не приходится[10]. Тем не менее, когда в рамках семиотики культуры разработанная формалистами техника поэтологического анализа применяется к анализу более широкого круга историко-культурных проблем и, в частности, бытового поведения, такой тип операциональной редукции утрачивает свою легитимность. В самом деле, если возможно согласиться с тем, что обсуждать психологические мотивации, например, повествователя и автора «Путешествия из Петербурга в Москву» заведомо неуместно при литературоведческом анализе «Путешествия…», то, работая, скажем, над биографией Радищева, эти вопросы в принципе нельзя обойти. Так, убедительность предложенного самим Лотманом истолкования самоубийства писателя зависит, в первую очередь, от нашего понимания его эмоций и мотивов.