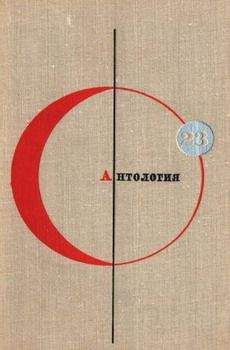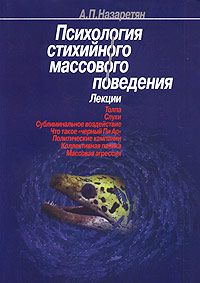Акоп Назаретян - Цивилизационные кризисы в контексте Универсальной истории
Науке потребовались три столетия вдохновенных успехов и горьких разочарований, чтобы обнаружить существование человека – наблюдателя, мыслителя и исследователя. Классическое естествознание строилось на оппозиции антропоморфизму средневековых схоластов, объяснявших все физические движения по аналогии с целенаправленными действиями людей. Естественнонаучное мировоззрение перевернуло логику интерпретации: его лейтмотивом стало освобождение от субъекта и цели, а сверхстратегией – редукционизм, т. е. представление эволюционно высших процессов по аналогии с эволюционно низшими.
Редукционистская парадигма сыграла решающую роль в становлении науки Нового времени. Ею был заложен фундамент всех современных дисциплин, освоивших методы анализа, эксперимента, экстраполяции и квантификации. Вместе с тем интерпретационный потенциал бессубъектных моделей оказался исчерпаем, и это явственно ощутили не только психологи, искусствоведы, социологи, биологи, но и прежде всего физики.
В первой половине ХХ века произошло шокировавшее современников «стирание граней между объектом и субъектом» [Борн М., 1963]. Естествоиспытателям пришлось признать зависимость знания от его носителя, от рабочих гипотез и применяемых процедур. А главное – тот факт, что сам процесс наблюдения (исследования) есть событие, включенное в систему мировых взаимодействий, и пренебречь этим обстоятельством тем труднее, чем выше требование к строгости результатов. Вопрос А. Эйнштейна, изменяется ли состояние Вселенной оттого, что на нее смотрит мышь, ознаменовал новую, неклассическую парадигму научного мышления.
Эта парадигма охватила естественные, гуманитарные науки и, что еще более важно, формальную логику и математику. Теорема К. Геделя о неполноте развенчала позитивистскую иллюзию о возможности чисто аналитического знания. Стали формироваться интуиционистские, конструктивистские и ценностные подходы к построению математических моделей, основанные на убеждении, что «понятие доказательства во всей его полноте принадлежит математике не более, чем психологии» [Успенский В.А., 1982, с. 9]. Все это превратило субъекта знания из статиста, остающегося за кадром научной картины мира, в ее главного героя.
В последующем классические идеалы науки подверглись еще более трудному испытанию. Идея субъектности охватила не только гносеологию, но и онтологию естествознания, обозначив контуры еще одной, постнеклассической парадигмы. С распространением системно-кибернетической и системно-экологической метафор вопросы «почему?» и «как?» стали органично сочетаться и даже упираться в вопрос «для чего?»
Молекулярный биолог обнаруживает, что ферментный синтез регулируется потребностями клетки в каждый данный момент. Геофизик, используя целевые функции для описания ландшафтных процессов, ссылается на соображения удобства и называет это принципом эврителизма, т. е. сугубо эвристическим приемом, безотносительно к «философскому» вопросу, обладает ли в действительности ландшафт собственными целями. Физик-теоретик, спрашивая, для чего природе потребовалось несколько видов нейтрино или зачем ей нужны лямбда-гипероны, понимает, что речь идет о системных зависимостях. Представления, связанные с самоорганизацией, конкуренцией и отбором (организационных форм, состояний движения и т. д.), проникнув в неорганическое естествознание, продемонстрировали глубокую эволюционную преемственность между живым и косным веществом. А синтезированная Аристотелем и расщепленная Г. Галилеем и Ф. Бэконом категория целевой причинности вновь обрела права гражданства.
Постнеклассическая наука обогатила познавательный арсенал методом элевационизма (от лат. elevatio – возведение), когда продуктивные образы распространяются не «снизу вверх», как требует редукционистская стратегия, а наоборот, от эволюционно позднейших к более ранним формам взаимодействия. Это помогает обнаруживать в прежних формах те присущие им свойства, которые служат онтологической предпосылкой будущего и, в частности, эволюционные истоки субъектных качеств, явственно выраженных в поведении высокоорганизованных систем[2].
Здесь, однако, необходимо выделить нюанс, недооценка которого может привести к недоразумениям. Элевационизм остается в рамках научной методологии до тех пор, пока исследователь не поддается соблазну телеологических интерпретаций и не навязывает настоящее в качестве эталона для прошлого. Элевационистская парадигма несовместима с допущением, будто прошлое существует ради будущего, а мир был создан и развивался для того, чтобы в нем когда-то появились автор и воображаемый читатель этих строк.
Напротив, я буду строго следовать гипотезе апостериорности: каждое существенно новое состояние есть ответ системы на складывающиеся обстоятельства, причем только один из возможных ответов. Задача состоит в том, чтобы выяснить, складываются ли такие «ответы» в последовательные векторы мировой эволюции, и если да, то почему это происходит, не обращаясь к постулату об изначально заложенных целях или a priori записанных смыслах (см., напр., [Налимов В.В., 1995]), которые только раскрываются по мере созревания разума. Прямые параллели между генетической программой роста организма и филогенезом живого вещества или, тем более, развитием Вселенной выхолащивают самые острые теоретические проблемы, лишают прошлое самодовлеющей ценности и ведут, с одной стороны, к историческим аберрациям, а с другой – к волюнтаризму в практической политике.
Вместе с тем опора на тезис «Я существую» предполагает решительное перераспределение акцентов. В классической науке факт человеческого существования служил источником когнитивного дискомфорта и даже выглядел, по ироническому замечанию И. Пригожина [1985, с.24], «своего рода иллюзией». Диаметрально противоположный взгляд выражает формула выдающегося английского астрофизика Б. Картера (цит. по [Розенталь И.Л., 1985]): Cogito, ergo mundus talis est (Я мыслю, значит, мир таков, каков он есть). Иначе говоря, «любая физическая теория, противоречащая существованию человека, очевидно, неверна» [Девис П., 1985, с.154], и эта простая мысль стала аксиомой для многих современных естествоиспытателей.
В социальном исследовании антропный принцип оборачивается принципом эгоцентризма. Человеческий мир обладает такими качествами, которые позволили ему дожить до моего рождения, и серьезного обсуждения заслуживают только такие концепции, которые этому факту не противоречат. Чем лучше мы поймем, почему цивилизация смогла до сих пор сохраниться, тем больше шансов преодолевать кризисные ситуации в будущем.
Таким образом, философская банальность, состоящая в том, что прошлое содержит в себе возможность настоящего, превращается в оригинальный методологический ориентир: полноценное описание физических, биологических или социально-исторических состояний должно содержать указание на те их свойства, которые сделали возможными последующие события и состояния. Этому созвучен еще один типично пост-неклассический мотив (см. эпиграф) – необходимость управлять настоящим из будущего.
Эволюционно-исторический разворот научного мировоззрения обусловил сдвиг интереса с проблемы бытия к проблеме становления и, далее, к проблеме сохранения.
С одной стороны, равновесные состояния и линейные процессы оказываются только переходными моментами неравновесного и нелинейного мира, в котором постоянно образуются новые структуры. С другой стороны, почти все новообразования в духовной жизни, в технологиях, в социальной организации, а ранее в биотических и физико-химических процессах представляют собой «химеры» – в том смысле, что они противоречат структуре и потребностям метасистемы, – и чаще всего выбраковываются, не сыграв заметной роли в дальнейших событиях. Но очень немногие из таких химерических образований сохраняются на периферии большой системы (соответственно, культурного пространства, биосферы или космофизической Вселенной) и при изменившихся обстоятельствах могут приобрести доминирующую роль. Поэтому важнее выяснить не то, как и когда в истории возникло каждое новое явление, а то, когда и почему оно было эволюционно востребовано после длительного латентного присутствия в системе.
Рассматривая развитие как функцию сохранения и сосредоточив основное внимание на периодически обостряющихся кризисах, мы выделяем важный ракурс в причинно-следственной динамике не только прошлого, но также настоящего и будущего.
Именно будущее – основной предмет этой книги, хотя ее большая часть посвящена далекому прошлому. Прогноз всегда так или иначе строится на экстраполяции, а главный вопрос состоит в том, какие из выявленных тенденций, как и в какой мере уместно экстраполировать.