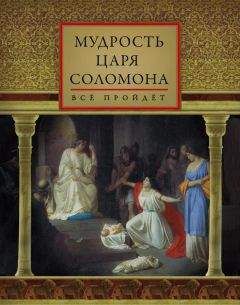Конрад Лоренц - Кольцо царя Соломона
Будучи большим учёным с философским складом ума, К. Лоренц не может остановиться на полпути и не обратить своего взгляда в сферу интереснейших проблем, связанных со спецификой и эволюцией поведения человека. Как биологический вид человек вышел из животного мира, так что у нас нет никаких оснований отрицать преемственность в поведении животных и человека. Если это так, то глубокое знание механизмов поведения животных даёт нам необходимый ключ к пониманию путей становления и эволюции поведения человека. А ведь человек стал «Человеком Разумным» именно благодаря прогрессивным изменениям в его поведении — он научился изготовлять разнообразные орудия и использовать их по назначению, добывать огонь, выращивать хлеб и овощи, одомашнивать животных. Не удивительно, что проблема эволюции человеческого поведения, заложенная ещё трудами Ч. Дарвина, все чаще привлекает в наши дни внимание этологов и зоопсихологов. Эта тема всегда была очень близка и К. Лоренцу. Среди прочих вопросов, связанных с нею, Лоренца особенно интересует проблема происхождения различных ритуалов у человека (например, ритуал приветствия), а также пути возникновения и эволюции человеческой морали. С некоторыми взглядами автора на этот предмет читатель может познакомиться в последней главе этой книги, а также в статье «Эволюция ритуалов в биологической и культурной сферах», опубликованной в № 11 журнала «Природа» за 1969 г. Надо заметить, что хотя Лоренцу нельзя отказать здесь в наблюдательности и остроумии трактовок, некоторые проводимые им аналогии между поведением животных и человека могут оказаться при более глубоком раздумье достаточно поверхностными. Это обстоятельство неоднократно служило поводом для критики научно-популярных произведений Лоренца со стороны советских и зарубежных исследователей поведения животных.
В наши дни, когда этология становится развитой наукой, в которой занята целая армия профессионалов, не всем им удаётся избежать чисто утилитарного отношения к животным как к безликому «материалу» для исследований. Такой подход абсолютно чужд К. Лоренцу, все творчество которого окрашено глубоко личным отношением к нашим «братьям меньшим» как к существам с собственной индивидуальностью, заслуживающим защиты, любви и уважения. Вот источник той совершенно особой атмосферы, которая будет сопровождать читателя от первой до последней страницы этой замечательной книжки о работе учёного-энтузиаста и о его любимых питомцах.
Е. Н. ПАНОВ
ВВЕДЕНИЕ
Во века веков не рождалось царя
Мудрее, чем царь Соломон;
Как люди беседуют между собой
Беседовал с бабочкой он[1]
Редьярд КиплингБиблейская легенда рассказывает, что мудрый царь Соломон, сын Давида, «говорил и со зверями, и с дикими птицами, и с ползающими тварями, и с рыбами». Не совсем верное истолкование этого текста, который, очень вероятно, представляет собой самую старую в мире биологическую запись, породило прелестную сказку, что царь Соломон обладал способностью говорить на языке животных, скрытом от других людей. Но я склонен принять эту сказку за истину. У меня есть все основания верить, что Соломон действительно мог беседовать с животными и даже без помощи волшебного кольца, обладание которым приписывает ему легенда. Я сам могу делать то же самое, не прибегая к магии, чёрной или какой-либо иной. На мой взгляд, это не слишком занимательно — пользоваться волшебным кольцом, пытаясь понять Животных. Они могут рассказать человеку, и не пользующемуся сверхъестественной помощью, вещи ещё более замечательные и вполне правдивые, ибо правда о природе гораздо прекраснее и удивительнее всего, о чём пели наши великие поэты, эти единственные настоящие волшебники, существовавшие на Земле.
Я нисколько не шучу. Если «сигнальный код» общественных видов животных вообще можно назвать языком, то человек, изучивший этот «словарь», сможет понимать животных (данному вопросу посвящена одна из глав моей книги). Конечно, низшие и необщественные животные не имеют ничего, что должно было бы назвать языком даже в самом широком смысле хотя бы по той простой причине, что им нечего сказать. По той же причине невозможно сообщить что-либо им. Несомненно, исключительно трудно высказать что-то, способное заинтересовать этих «пресмыкающихся тварей». Однако путём изучения «словаря» высокоорганизованных общественных видов млекопитающих и птиц можно достигнуть изумительного подражания и взаимного понимания. В последних работах учёных, исследующих поведение животных, это становится делом само собой разумеющимся и перестаёт быть источником удивления. Но я ещё сохраняю в памяти яркое воспоминание об одном забавном эпизоде, принёсшем мне убеждённость, что удивительное и единственное в своём роде явление вполне возможно.
Прежде чем рассказать об этом, я должен описать обстановку, на фоне которой развёртывалась большая часть событий, описанных в моей книге. Прекрасная страна, примыкающая к обоим берегам Дуная в округе Альтенберг, — это истинный рай для натуралистов. Защищённые от наступления сельского хозяйства и цивилизации ежегодным весенним разливом Дуная густые ивовые леса, заросшие тростником болота и дремлющие воды простираются на много квадратных километров; остров первобытной дикости в самом центре Нижней Австрии; оазис девственной природы, где красный олень и косуля, цапля и баклан пережили даже превратности последней ужасной войны. Здесь, как в любимой Вордсвортом[2] Стране Озёр:
Среди осоки дикой утки всплеск,
И щучьей чешуи мгновенный блеск,
И цапля улетает в небосвод,
Как дротик, шею вытянув вперёд.
Редко удаётся встретить в самом сердце старой Европы места, столь девственно дикие. Здесь наблюдается странный контраст между характером ландшафта и географическим положением места, а для глаз натуралиста этот контраст ещё более подчёркивается присутствием некоторых американских видов растений и животных, завезённых сюда ранее. Американская золотая розга встречается в изобилии, а под водой её заменяет канадская элодея; американский солнечный окунь[3] и кошачья рыба[4] обычны в заводях; и что-то грузное и громоздкое в фигуре нашего оленя напоминает вам, что Франц-Иосиф I, в зените своей охотничьей жизни, завёз в Австрию несколько сотен голов вапити[5].
Мускусная крыса[6] чрезвычайно обильна. Она пришла сюда из Богемии, куда впервые была завезена из Северной Америки. Громкие всплески хвоста ондатр, когда они ударяют по поверхности воды, желая подать сигнал тревоги, смешиваются с мелодичным свистом европейской иволги.
Ко всему этому добавьте зрелище Дуная, этого младшего брата Миссисипи; представьте себе могучую реку, текущую в широком, мелководном, извилистом ложе, её узкий навигационный проход, в отличие от всех других европейских рек постоянно меняющий своё направление, громадное пространство беснующейся воды, которая изменяет цвет в зависимости от времени года: от мутного, серовато-жёлтого — весной и летом до чистого, голубовато-зелёного — поздней осенью и зимой. Да, «голубой Дунай», воспеваемый в наших народных песнях, существует только в холодное время года.
Причудливо извивающаяся лента реки окружена холмами, покрытыми виноградниками, с вершин которых два раннесредневековых замка, Гренфенштейн и Крюзенщтейн, угрюмо смотрят поверх громадных пространств диких лесов и вод. Бот тот ландшафт, на фоне которого разворачивались события этой книги, ландшафт, который мне кажется самым прекрасным на Земле, ибо каждый человек вправе считать самым прекрасным те места, где он прожил большую часть своей жизни.
В один из жарких дней в начале лета, когда мы с доктором Зейтцем, моим другом и помощником, работали над фильмом о диких гусях, по этой прекрасной местности передвигалась чрезвычайно странная процессия, столь же причудливая, как и сам ландшафт. Впереди шествовал большой рыжий пёс, внешне напоминавший аляскинскую эскимосскую лайку, а на самом же деле — помесь австралийской и китайской пород. За ним два человека в плавках несли каноэ, за ними десять полувзрослых гусят вышагивали с чувством собственного достоинства, столь свойственного их племени. Тринадцать крошечных пищащих кряковых утят торопились следом, боясь отстать и стараясь держаться вместе с более крупными животными. В конце процессии маршировал странный, уродливый пегий утёнок, не похожий ни на что на свете, — гибрид огаря[7] и египетского гуся[8]. Только плавки на бёдрах двоих участников этой сцены и кинокамера, висевшая через плечо одного из них, не позволяли предположить, что вы являетесь свидетелем сцены, происходящей в садах Эдема.