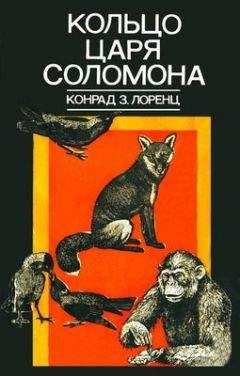Конрад Лоренц - Восемь смертных грехов цивилизованного человечества
В своей первоначальной функции мода оказывает, вероятно, стабилизирующее, консервативное влияние на развитие культуры. Её законы диктовались патрициями и аристократами. Как показал Отто Кёниг, в истории мундиров старые, восходящие ещё к рыцарским временам особенности одежды, давно уже исчезнувшие в мундирах рядовых, сохранялись ещё очень долго в качестве знаков различия у офицеров высоких и наивысших рангов. Когда стали заметны описанные выше явления неофилии, оценка унаследованного в области моды начала применяться с обратным знаком. Отныне для больших человеческих масс стало признаком высокого ранга маршировать в первых рядах последователей всех «современных» новшеств. Само собою разумеется, в интересах крупных фирм было укрепить общественное мнение, считающее такое поведение «прогрессивным» и даже патриотическим. Прежде всего им удалось, по-видимому, убедить широкие массы потребителей, что обладание новейшими образцами одежды, мебели, автомобилей, стиральных машин, машин для мойки посуды, телевизоров и т д. служит самым надёжным «символом статуса» (и самым действенным образом повышает кредитоспособность владельца). Самую смехотворную мелочь фирма может использовать в качестве такого символа и превратить в предмет широкомасштабной финансовой эксплуатации. Это видно из следующего трагикомического примера: как могут припомнить старые знатоки автомобилей, у машин фирмы «Бьюик» были раньше по обе стороны капота лишённые каких бы то ни было функций отверстия с хромированным краем, напоминавшие по форме бычий глаз; у восьмицилиндровой машины было с каждой стороны по три таких дыры, а у более дешёвой шестицилиндровой — лишь по две. Когда фирма в один прекрасный день стала делать по три бычьих глаза также и на шестицилиндровых машинах, эта мера возымела желаемое действие, продажа машин этого типа резко увеличилась, фирма нуждалась в таком утешении, поскольку получала бесчисленные жалобы от владельцев восьмицилиндровых машин, горько сокрушавшихся, что им придётся делиться подобающим лишь их машинам символом статуса с владельцами машин низшего ранга.
Наихудшие воздействия мода производит, однако, в области естественных наук. Было бы большой ошибкой думать, что профессиональные учёные не затронуты болезнями культуры, составляющими предмет этой работы. Лишь представители прямо относящихся к этому наук, например экологи и психиатры, вообще замечают, что неладно что-то в виде Homo sapiens L.; но как раз эти учёные имеют крайне низкий статус в ранговом порядке, который нынешнее общественное мнение приписывает различным наукам, что превосходно изобразил недавно Джордж Гейлорд Симпсон в своей сатирической статье о «peck order»[63] в сообществе наук.
Не только общественное мнение о науке, но и мнение внутри наук, несомненно, склонно считать важнейшими те из них, которые представляются таковыми лишь с точки зрения нынешнего человечества — в массе своей деградировавшего, отчуждённого от природы, верящего лишь в коммерческие ценности, эмоционально нищего, низведённого до уровня домашнего скота и потерявшего связь с культурной традицией. В общем и целом общественное мнение учёных страдает теми же болезнями упадка, о которых была речь в предыдущих главах. «Big Science»[64] — это ни в коем случае не наука о самых великих и высоких вещах на этой планете, не наука о человеческой душе и человеческом духе; это прежде всего и исключительно то, что приносит много денег или много энергии, или то, что даёт большую власть, хотя бы это была всего лишь власть уничтожать все истинно великое и прекрасное.
Первенствующую роль, которая действительно подобает физике среди естественных наук, никак невозможно отрицать. Физика составляет основание, на котором держится непротиворечивая многоэтажная система естественных наук. Любой удавшийся анализ на любом, сколь угодно высоком уровне интеграции естественных систем является шагом «вниз», по направлению к физике. «Анализ» в немецком переводе означает Auflosung (растворение, разложение), но в процессе анализа растворяются и устраняются вовсе не особые закономерности, свойственные специальным естественным наукам, а одни лишь границы, отделяющие ту или иную науку от ближайшей к ней более общей. Подлинное растворение границы в этом смысле удалось до сих пор лишь однажды: физическая химия действительно сумела свести законы природы, открытые в её области исследования, к более общим физическим законам. Аналогичное явление начинается теперь в биохимии, где растворяется граница между биологией и химией. И хотя в других естественных науках столь разительных успехов, по-видимому, указать нельзя, принцип аналитического исследования всегда остаётся неизменным:' пытаются свести явления и закономерности некоторой области знания или, как выразился бы Николай Гартман, некоторого «слоя реального бытия», к явлениям и закономерностям, существующим в ближайшей более общей области, и объяснить их из более специальной структуры, свойственной лишь этому более высокому слою бытия. Впрочем, мы, биологи, считаем изучение этих структур и их истории достаточно важным, а также достаточно трудным, чтобы не рассматривать биологию, вслед за Криком, как несложную боковую ветвь физики (a rather simple extension of physics); мы подчёркиваем также, что и физика, в свою очередь, покоится на некотором основании, и основанием этим является биологическая наука, а именно наука о живом человеческом духе[65]. Но в указанном выше смысле мы твёрдые «физикалисты» и признаем физику той основой, к которой наше исследование всегда ведёт.
Я утверждаю, однако, что репутацией «величайшей из наук», которой физика пользуется в глазах общественного мнения, она обязана вовсе не этой оправданно высокой оценке её как основы всех наук о природе, а совсем другим, безусловно дурным причинам, о которых было сказано выше. Лишь отправляясь от этих причин — и некоторых других, обсуждаемых дальше, — можно объяснить удивительную оценку наук нынешним общественным мнением, ценящим каждую отдельную науку — как справедливо считает Симпсон — тем ниже, чем выше, сложнее и значительнее предмет её изучения.
Естествоиспытатель, конечно, вправе избрать себе предмет исследования, принадлежащий любому слою реального бытия, любому, сколь угодно высокому уровню интеграции жизненных явлений. Наука о человеческом духе, и прежде всего теория познания, также начинает превращаться в биологическую естественную науку. Так называемая точность естествознания не имеет ничего общего со сложностью и с уровнем интеграции её предмета, а зависит исключительно от самокритичности исследователя и чистоты применяемых им методов. Употребительное обозначение физики и химии как «точных естественных наук» есть клевета на все другие науки. Известные изречения вроде того, что любое исследование природы является наукой в той мере, в какой в ней используется математика[66], или что наука состоит в том, чтобы «измерять то, что измеримо, и делать измеримом то, что не измеримо», представляют собой и в смысле теории познания, и с человеческой точки зрения величайшую нелепость, когда-либо срывавшуюся с языка у людей, которым следовало бы лучше понимать что они говорят.
Но хотя все эти псевдопремудрости, как можно доказать, ложны, образ науки и до сих пор складывается преимущественно под их влиянием. В наше время модно пользоваться методами, возможно более похожими на методы физики, причём безразлично, обещают ли они успех в изучении выбранного предмета. Каждая естественная наука, и физика в том числе, начинает с описания, переходит затем к упорядочению описанных явлений и лишь после этого к абстрагированию их закономерностей. Эксперимент служит для проверки абстрагированных законов природы и занимает поэтому в ряду методов последнее место. Эти стадии, выделенные уже Виндельбандом под именами дескриптивной, систематической и номотетической, должна пройти каждая естественная наука. Поскольку физика давно уже находится в номотетической и экспериментальной стадии развития и поскольку она, сверх того, столь далеко продвинулась за границы наглядного, что вынуждена определять свои объекты, по существу, операциями, доставляющими о них знания, многие люди полагают, что те же методы следует применять и к таким предметам исследования, для которых в настоящее время, при нынешнем состоянии наших знаний, уместно лишь простое наблюдение и описание. Чем сложнее и выше интегрирована органическая система, тем строже должна соблюдаться виндельбандовская последовательность методов; поэтому именно в области исследования поведения современный преждевременно экспериментальный операционализм приносит особенно абсурдные плоды. Это ложное направление, конечно, поддерживается верой в псевдодемократическую доктрину, согласно которой поведение животного и человека определяется вовсе не филогенетически возникшими структурами центральной нервной системы, а исключительно внешними влияниями и обучением. Фундаментальная ошибка способа мышления и работы, диктуемого бихевиористской доктриной, состоит как раз в этом пренебрежении структурами: описание их считается просто излишним, и допускаются лишь операционные и статистические методы. Поскольку, однако, все биологические закономерности вытекают из действия структур, попытки абстрагировать законы поведения животного без дескриптивного изучения структур, от которых зависит это поведение, представляют собой напрасный труд.