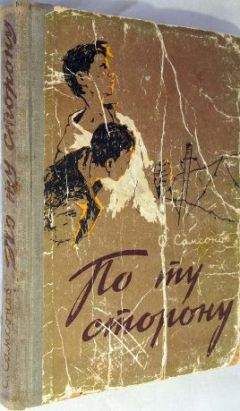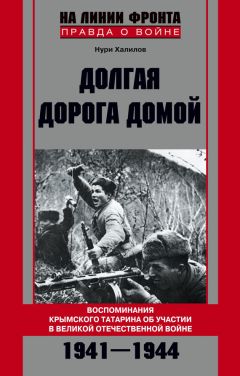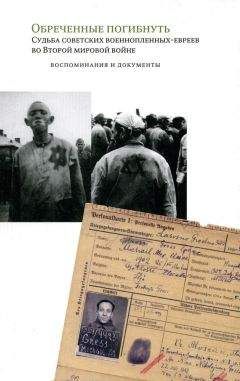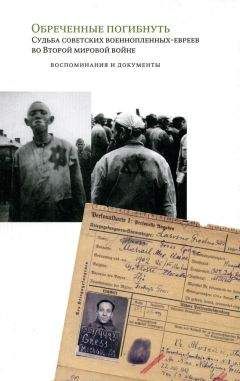Леонид Котляр - Воспоминания еврея-красноармейца
Самыми образованными из нас были инженеры Виноградов и Минерин и политработник Штепа (оказавшийся впоследствии Шолоховым) — троица, привезенная в Германию со Смоленщины раньше нас. Они жили маленькой сплоченной коммуной, пользовались у нас непререкаемым авторитетом, хорошо играли на струнных музыкальных инструментах и составляли довольно слаженное трио: гитара, мандолина, балалайка. Лучше всего им удавался жанр городского романса. Получались у них и народные песни. Особенно нравился мне в их исполнении романс «Умер бедняга в больнице военной». Раньше я его никогда не слышал, и запомнился он мне, видимо, потому, что как нельзя лучше соответствовал моему тогдашнему настроению.
Знатоком немецкого языка в нашей комнате был Виноградов. Он свободно читал немецкие газеты и часто приносил в барак «Штутгартер цайтунг» или «Фолькишер беобахтер». Если делать поправку на трюки пропаганды, из этих газет можно было получить приблизительное представление о том, что происходит на фронтах.
Получали мы в лагере (бесплатно) раз в неделю газетку на русском языке. В ней с большим опозданием тоже помещались краткие сообщения с фронтов, много антисемитских публикаций, а также антисоветских и антикоммунистических. Мне запомнилось, как эта газетка отреагировала на введение в Красной Армии погонов. На карикатуре был изображен генерал в мундире с генеральскими погонами и с ярко выраженной еврейской внешностью, любующийся своим отражением в зеркале. Надпись гласила: «Циперович в новых погонах». Сталинские репрессии давали, к сожалению, весьма обширный, а главное, правдивый материал для этой газеты. Невозможно было не верить приводившимся фактам, поражавшим своей жестокостью и бессмысленной несправедливостью. Смысл таких публикаций сводился к тому, что уж кому-кому, а советским военнопленным и остарбайтерам незачем желать победы Красной Армии, если они не хотят остаток жизни гнить в советском ГУЛАГе или быть замученными в застенках НКВД. Но все равно я с нетерпением ждал победы над нацистами. Хоть краем глаза хотелось увидеть день расплаты за их злодеяния.
Особенно усилилась антисоветская тема в газетке после разгрома немцев на Курской дуге. Тогда же усилилась вербовка во Власовскую армию, называемую РОА (Российская освободительная армия). А мы во власовцы не шли (хотя власовцев хорошо кормили) и старались выжить в тяжелых условиях немецкого рабства.
Вторая волна вербовки в РОА советских военнопленных и остарбайтеров началась летом 1944 года. Одну из таких вербовок я наблюдал в одно из воскресений в нашем лагере. Вербовщиков было трое: майор-летчик, капитан и старший сержант. Все они были в соответствующей форме воинов Красной Армии (видимо, в обмундировании, в котором попали в плен), при боевых наградах, которые они успели заслужить еще до плена, в надраенных до блеска сапогах, свежевыстиранных и отглаженных гимнастерках и шароварах.
Они ходили по комнатам, беседовали с нами, сидя на наших табуретах, рассказывали, почему решили служить в армии генерала Власова (излагали «политическую» сторону вопроса), не забывали сказать, что обеспечивают их всем необходимым наравне с немецкими солдатами и офицерами.
Затем последовало общее построение всех остарбайтеров мужского пола (по большей части бывших военнопленных). Нам объяснили, что мы не нарушим присягу, если поступим в армию Власова, так как Сталин давно от нас отказался и объявил предателями. А потом тем, кто решил поступить в РОА, предложили сделать два шага вперед. Из строя вышли только два человека: Николай Медведев из нашей комнаты (нарушивший тем самым присягу) и мальчишка лет семнадцати, увезенный немцами из Полтавской области при отступлении. Поступок этот был продиктован желанием избежать существования впроголодь.
Не хватало только шпаги
Небольшую возможность давал нам в этом плане овощной ларек, располагавшийся по дороге на Верк-I у железнодорожной насыпи. Ларек открывался рано утром, когда мы шли на завод. Вахман разрешал нам оставлять в ларьке мешочки с привязанной к каждому из них немецкой маркой. У нас в строю был свой переводчик Ваня Ховренков, деревенский девятиклассник из-под Смоленска, хорошо выучивший немецкий язык в школе. Он бегом относил по утрам мешочки, а вечером владельцы мешочков получали заказанные восемь килограммов картошки. Картошку заказывали не часто, не хватало денег.
Кто-то разведал, что по субботам в одном из магазинов в Штутгарт-Фейербах иногда продается без карточек кровяная колбаса (она мало напоминала нашу украинскую кровянку, но все-таки была подобием колбасы). По субботам мы работали до полудня, и если вахман разрешал, два-три человека, покинув строй, отлучались за этой колбасой. А то и наведывались в центр Штутгарта, где иногда тоже удавалось раздобыть что-нибудь из продовольствия. Правда, возвращение в лагерь самостоятельно, вне строя, было делом рискованным, не всегда осуществимым. Но постоянный голод толкал на риск. Оказавшись в городе, можно было, если повезет, раздобыть и «брот-марки» — талончики на хлеб (брот), вырезанные из продуктовых карточек. Каждый талончик был не больше почтовой марки, и по этому талону в хлебном магазине можно было за 33 пфеннига купить полукилограммовую буханку отличного серого хлеба, слегка напоминающего нынешний украинский хлеб в Киеве, но гораздо лучшего качества. Любопытно, что качество хлеба, который по всей Германии выпекался в небольших пекарнях-магазинах и продавался их владельцами, везде было отличное, а буханки похожи одна на другую, как близнецы, без единого изъяна. Брот-марки продавали исподтишка сербы, поляки, болгары и другие иностранные рабочие по цене от пяти до десяти марок. Итак, при наличии денег и некотором везении иногда удавалось в воскресенье полакомиться вареной картошкой с кровяной колбасой и настоящим пшеничным хлебом. Тот, кто отваживался добраться до центра Штутгарта, мог в случае удачи зайти в помещение крытого рынка, единственного в городе, и поесть овощного супу за 20 пфеннигов или купить двухсотграммовый пакетик форшмака из ржавой селедки крутого посола, который тоже был для нас редким и желанным лакомством. Но для поездки в центр на трамвае нужна была мало-мальски сносная гражданская одежда, а не синяя спецовка со знаком «ОСТ», а кроме того, — умение перекинуться несколькими немецкими словами с торговцами на рынке, чтобы сойти за какого-нибудь иностранного рабочего, но не из Советского Союза, поскольку остарбайтерам категорически запрещалось самовольно покидать свои лагеря.
А гражданскую одежду можно было раздобыть на одной из окраин Штутгарта, где полулегально собиралась по воскресеньям толкучка. Там, в тупике под железнодорожным виадуком, толпилась многочисленная и разноязыкая толпа продавцов и покупателей подержанной обуви и одежды. Я посещал этот рынок вместе с Иваном в 1944 году не более двух раз. (Однажды, возвращаясь оттуда, мы даже попали на представление цирка-шапито — зрелище во всех отношениях убогое.)
Изворотливый и предприимчивый человек, не боявшийся рисковать и использовавший периодические послабления лагерного режима, мог извлекать немалую пользу из воскресных посещений центра города и вещевой толкучки. Таким человеком оказался Иван Доронин, за короткое время наживший хромовые сапоги, почти новенький кофейного цвета костюм, демисезонное пальто грубой шерсти, кожаные перчатки, гитару, две простыни и наволочку. Это было колоссальное богатство. Каким образом все эти предметы роскоши достались Ивану, он держал в секрете даже от меня, а я ни о чем не расспрашивал. Под гитару мы иногда пели с ним романсы и блатные песни, а костюм и перчатки запечатлены вместе с Иваном и трогательной надписью, сделанной им, на фотокарточке 9* 12 до сих пор хранящейся у меня.
Вскоре и я обзавелся кое-какой одежонкой. Способствовало этому приближение весны, которая в Штутгарте наступает уже в конце февраля. Мы стали очень дешевой рабочей силой для местных жителей, владевших небольшими земельными участками в черте города. Работали мы за кусок хлеба, за тарелку супу. Получить такую работу считалось большой удачей. Мне тоже повезло: я напросился на работу у старого Езефа, работавшего по соседству с нашей слесарной мастерской в смежном помещении за деревянной перегородкой. Он снабжал заводские цеха газом, необходимым для пайки радиаторов и других работ. Газ производился тут же из карбида и подавался по трубам в цеха. Жил Езеф на противоположном конце города и добирался на работу двумя трамваями. В один из весенних субботних дней сразу после работы он повез меня к себе домой. На мне была спецовка со знаком «ОСТ», но в сопровождении немца это не помешало мне пересечь на трамваях весь город. Возвращался я в поношенном, но чистом грубошерстном пиджаке и в светло-серых в елочку широких брюках с манжетами, которые, в общем-то, полагалось застегивать над щиколоткой напуском на носки-гольфы или краги. Я же, за неимением ни того ни другого, надел их, как обычные брюки, застегнув манжеты у самых косточек. Пошел дождик, и Езеф снабдил меня старым прорезиненным плащом-накидкой и широкополой фетровой шляпой. Когда я в таком живописном наряде, благополучно завершив свой путь по вечернему городу и через лагерный забор, предстал перед своими товарищами по комнате, они чуть не лишились дара речи, а затем разразились гомерическим смехом. В моем наряде не хватало только шпаги. И все-таки смех был вызван скорее неожиданностью зрелища, поскольку экстравагантность нашей случайно добытой одежды никого не удивляла. У Езефа меня накормили, и это было достаточной платой за работу. Остальное следовало отнести на счет благотворительности его симпатичной и доброй жены, которая рассказала мне об их единственном сыне — солдате, который был все еще жив только потому, как она полагала, что не попал на Восточный фронт.