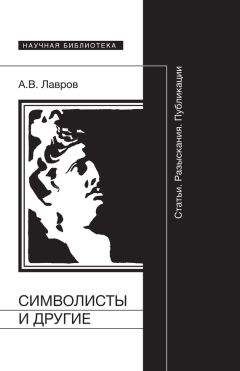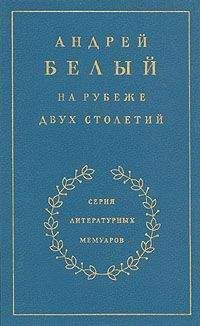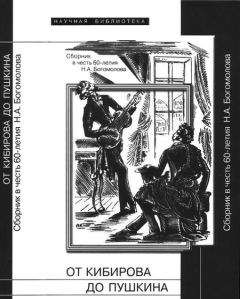Всеволод Багно - На рубеже двух столетий
Учреждая петербургское Религиозно-философское общество, одни из его участников мечтали отгородить себя «от всякого академического духа» и превратить объединение в место «встречи верующих людей, а не людей религиозно-осведомленных, не ученых, для которых религия есть пережиток старины, любопытный только для исследователей и исследования», а «всех ищущих религиозной истины»[174]. Другие, ориентированные на так называемую «религиозную общественность», были озабочены формированием собственной организации по образу и подобию «церкви»[175]. Уже в силу раздвоения институциональных интенций РФО не могло не нести в себе самые противоречивые черты. Большинство собраний именовались «закрытыми»; их организаторы, ограничиваясь кругом «действительных членов» и специально приглашенных лиц, старались избежать случайных посетителей и нежелательного направления дискуссий[176]. Характер взаимоотношений инициаторов сообщества и публики был, по существу, предопределен уже самим фактом идейного ригоризма его руководителей, которые отводили слушателям пассивную роль. Очевидным признаком коммуникативного самораспада религиозно-философского сообщества стало и исключение самого яркого «инакомыслящего» идеалистического движения — В. В. Розанова, хотя при этом само Общество, безусловно, идеологически только укрепилось. Неудивительно, что, когда три года спустя РФО тихо прекратило свою деятельность, на этот факт вообще мало кто обратил внимание.
В качестве еще одного «постскриптума» к инциденту можно добавить совсем немного. Год революции навсегда разделил Иванова-Разумника и круг Мережковских «разными сторонами баррикад». Между тем каждая из противоборствующих сторон помнила о событиях первой половины 1913 года. Отзвук слов Карташева о некоем «деле» возникает на страницах «скифского» манифеста — в части, принадлежащей перу Иванова-Разумника: «Это он (мещанин. — В.Б.), трезвый и плоский, заменяет непонятную ему истину „вначале бе Слово“, — другой, понятной и простой: „im Anfang war die Tat“…[177] Ибо для него не Личность, а Деяние есть самоценность, цель и высший судия»[178]. В свою очередь, письмо А. Карташева к Д. Философову от 29 декабря 1917 года свидетельствует о том, что прежние столкновения с Ивановым-Разумником отнюдь не были преданы забвению: «Пишу Вам „целование“ к Новому году, дорогой Дмитрий Владимирович. Это великий и страшный год суда Б<ожия> над нашей тысячелетней государственностью, год еще тягчайших разочарований, испытания духа народного, но и покаяния и восстановления рассыпанной храмины. Надо очень и очень помолясь переступать порог этого года. И немного „совлечься“ нашего самомнения в знании путей к воскресению и подумать более о „скрижалях сердца плотяных“, чем о „скрижалях каменных“[179] разных „Заветов“, по букве которых мы и зашли в эти тупики»[180]. Ирония судьбы заключалась в том, что спустя два года Иванову-Разумнику самому пришлось оказаться в роли председательствующего — уже на заседаниях Петроградской Вольной философской ассоциации. Спустя тридцать лет после означенного инцидента, в письме к А. М. Ремизову от 21 октября 1942 года, Иванов-Разумник вспомнит об общем прошлом и о председателе Религиозно-философского общества вполне примирительно: «И где теперь А. В. Карташев? Разметало всех нас, подлинно, как листья по ветру»[181]. И хотя каждая из сторон в своих суждениях касалась некоего «мы», понимание общности оказалось у них диаметрально противоположным.
Владимир Белоус (Санкт-Петербург)Аполлон и лягушка[*]
Красавец вместе и урод…
А. Блок «Возмездие»Общеизвестной является занимавшая творцов русского символизма идеологическая, мифологическая etc. полярность, двойственность, почти провербиальная антитетичность, спроецированная на структуру личности. В литературных текстах, философской эссеистике, критических статьях и самоописаниях символистов легко отыскиваются мотивы антагонистического двойничества, так сказать внутреннего «спора факультетов» (как, например, в пьесе Блока «Незнакомка»), сложно аранжированного конфликта природы и духа, «божественного» и «звериного», «идеального» и «телесного» и т. п. — составлявшего ту персонологическую конструкцию, которая так интриговала отцов русского «нового искусства», например, в романистике Достоевского с ее двоящимися героями.
Едва ли не рекордсменом подобной «разорванности» — по крайней мере, одним из основных ее открывателей, конструкторов и аналитиков в культуре начала века — являлся Андрей Белый. Так, читателю его прославленного opus magnum, романа «Петербург», несомненно памятна характеристика, данная автором одному из центральных героев, сенаторскому сыну, неудачливому террористу и философу-неокантианцу Николаю Аполлоновичу Аблеухову. В первой главе «Петербурга» Белым вводятся анонимные реплики, описывающие впечатления от внешнего облика молодого интеллектуала и аристократа:
— «Красавец», — постоянно слышалось вокруг Николая Аполлоновича…
— «Античная маска…»
— «Аполлон Бельведерский».
— «Красавец…»
Встречные дамы, по всей вероятности, так говорили о нем.
— «Эта бледность лица…»
— «Этот мраморный профиль…»
— «Божественно….»
Встречные дамы по всей вероятности так говорили друг другу.
Но если бы Николай Аполлонович с дамами пожелал вступить в разговор, про себя сказали бы дамы:
— «Уродище…».[183]
Несколько далее, во второй главе романа, рассказывая про неудачную любовную историю кокетливой и светской Софьи Петровны Лихутиной и Аблеухова-младшего, Белый снова вводит указание на двойственность героя, причем «уродливость» Николая Аполлоновича закрепляется второй маской персонажа:
<…> Софью Петровну Лихутину мучительно поразил стройный шафер, красавец, цвет его неземных, темно-синих, огромных глаз, белость мраморного лица и божественность волос белольняных <…>. <…> Скоро Софья Петровна заметила <…> что лицо Николая Аполлоновича, богоподобное, строгое, превратилося в маску: ужимочки, бесцельные потирания иногда потных рук, наконец, неприятное лягушачье выражение улыбки, проистекавшее от несходившей с лица игры всевозможнейших типов, заслонили навек то лицо от нее (с. 64–65).
Двойственность Аблеухова подчеркнута автором, отчетливо указавшим на то, что «разорванность» персонажа станет одной из основных линий сюжета:
Скоро мы, без сомнения, докажем читателю существующую разделенность на две самостоятельные величины: богоподобный лед — и просто лягушачья слякоть. <…>… не было единого Аблеухова: был номер первый, богоподобный, и номер второй, лягушонок (с. 65–66).
Семантика роковой двойственности, «кощунственного смешения», внутреннего раскола Николая Аблеухова на «первый» и «второй» номера выстраивается Белым вокруг недвусмысленных полюсов, «параллельности», аналитичности взаимоотношений между статуарным «богоподобным существом», «идеей» — и «естественными отправлениями организма» (с. 479); напряженными философскими штудиями героя, возносящими его над миром обыденности в области чистого, кантианского, безличного сознания, — и его эмпирической, бытовой, телесной мизерабельностью и чувственной, «лягушачьей слякотью»; «богоподобным льдом» — и жалкой плотью. Как известно, подобная конструкция сближает «окалечившегося мыслью» сына и отца, сенатора Аполлона Аполлоновича Аблеухова, воплощение леонтьевско-победоносцевского «государственного льда»; его «каменное», «скульптурное» сознание также нацелено исключительно на постижение «всеобщего» и утверждение геометрического имперского порядка, которому лишь параллельно сугубо эмпирическое, частнозначимое существование терзаемого семейными неурядицами и болезнями, телесно непредставительного старика[184].
Уже отмечалась соотнесенность холода «чистого» сознания, отчужденного от «живой» жизни, с холодом аблеуховского локуса романа, сенаторской квартиры[185]:
Холодно было великолепье гостиной от полного отсутствия ковриков: блистали паркеты; если бы солнце на миг осветило их, то глаза бы невольно зажмурились. Холодно было гостеприимство гостиной. Но сенатором Аблеуховым оно возводилось в принцип. Оно запечатлевалось: в хозяине, в статуях, в слугах, даже в тигровом темном бульдоге, проживающем где-то близ кухни: в этом доме конфузились все, уступая место паркету, картинам и статуям, улыбаясь, конфузясь и глотая слова: угождали и кланялись, и кидались друг к другу — на гулких этих паркетах; и ломали холодные пальцы в порыве бесплодных угодливостей[186] (с. 17).