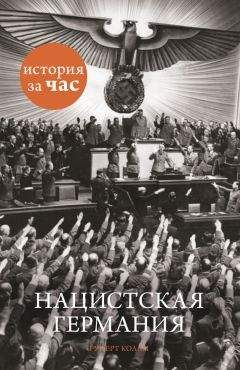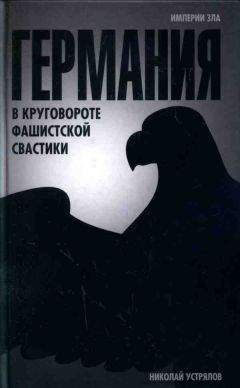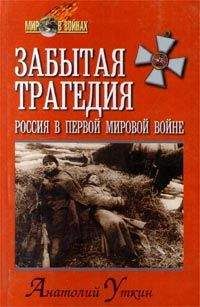Оливер Сакс - Зримые голоса
Потребовались непоколебимая уверенность в своей правоте и определенное упрямство, чтобы заниматься этими исследованиями, ибо почти все – и слышащие, и глухие – поначалу сочли идеи Стокоу абсурдными и еретическими. Его книги считались бесполезными, лишенными смысла[70]. Такова, по-видимому, судьба всех по-настоящему гениальных идей. Но уже в течение нескольких последующих лет благодаря работам Стокоу ситуация разительно изменилась, и в этой области началась революция по двум направлениям. Сначала научная революция, так как ученые наконец обратили внимание на язык жестов, а также на его когнитивный и неврологический субстрат; за научной последовала революция культурная и политическая.
В «Словаре американского языка жестов» приведены 3000 корневых знаков, и может показаться, что язык жестов располагает весьма ограниченной лексикой (стоит, например, сравнить это число с 600 000 слов в «Оксфордском словаре английского языка»). Но тем не менее язык жестов является на редкость выразительным и позволяет сказать практически все, что можно выразить устной речью[71]. Ясно, что здесь работают и другие, дополнительные принципы. Крупным исследователем этих других принципов – всего, что может превратить пассивный словарь в язык, – явились Урсула Беллуджи и ее коллеги из института Солка.
В словаре (лексике) содержатся имплицитно все понятия, но они остаются изолированными (на уровне «Я – Тарзан, а ты – Джейн») в отсутствие грамматики. Должна существовать формализованная система правил, с помощью которой порождаются связные высказывания – предложения, утверждения. (Это отнюдь не очевидная и не интуитивно воспринимаемая концепция, ибо высказывания кажутся такими непосредственными, такими цельными, такими личностными, что самому носителю языка не кажется, что он содержит или требует систему каких-то формальных правил; это одна из причин того, что многие, включая глухих носителей языка жестов, поначалу с недоверием отнеслись к идеям Стокоу, а позднее и Беллуджи, так как считали знаки и жесты нерасчленимыми и не поддающимися разумному анализу.)
Идея такой формальной системы, «порождающей грамматики», не нова. Гумбольдт говорил о языке как об инструменте, который «бесчисленным числом способов использует конечный набор средств». Но только тридцать лет назад мы получили от Ноама Хомского полноценное объяснение того, «каким образом эти конечные средства используются для создания бесконечного разнообразия языка». Хомский исследовал «глубинные свойства, определяющие язык вообще» и назвал их «глубинной структурой грамматики». Эти свойства автор считает врожденными и видоспецифическими характеристиками человека, дремлющими в его нейронных сетях и пробуждающимися актуальным употреблением языка. Хомский определяет эту «глубинную грамматику» как обширную систему правил («сотен правил различных типов»), содержащую определенную фиксированную общую структуру, которая по строению, вероятно, аналогична зрительной коре, каковая располагает всякого рода врожденными приспособлениями для упорядочения зрительного восприятия[72]. До сих пор мы практически ничего не знаем о неврологическом субстрате такой грамматики. Но о том, что он все же есть, и о его приблизительной локализации мы можем судить по тому факту, что существуют афазии, в том числе и жестовые, при которых специфически поражается грамматическая компетентность, и только она одна[73].
Человек, знающий определенный язык, – это человек, который, согласно формулировке Хомского, владеет «грамматикой, которая порождает… бесконечный набор потенциальных глубинных структур, накладывает их, как на карту, на сопряженные поверхностные структуры и определяет семантические и фонетические интерпретации этих абстрактных объектов»[74]. Но каким образом человек овладевает такой грамматикой? Как может освоить такой сложный инструмент двухлетний ребенок? Ребенок, которого не учат грамматике целенаправленно, который слушает не подобранные для обучения высказывания – иллюстрации к грамматике, – а спонтанную, небрежную и, казалось бы, неинформативную речь родителей? (Конечно же, речь родителей не является неинформативной и бессодержательной, она изобилует имплицитными грамматическими правилами и лингвистическими намеками, на которые ребенок подсознательно реагирует; но, естественно, родители не преподают ребенку курс грамматики.) Именно это так сильно поражает Ноама Хомского: как может ребенок получить так много из столь скудного источника[75]?
«Мы не можем не поражаться громадному несоответствию между знанием и опытом в случае языка, между генеративной грамматикой, которая выражает языковую компетенцию носителя языка, и ограниченностью данных, на основании которых он строит для себя эту грамматику».
Следовательно, ребенка не учат грамматике; и он сам ее не учит; он строит, конструирует ее на основании «ограниченных» и вырожденных данных, которые получает от окружающих взрослых. Это было бы решительно невозможно, если бы грамматика уже не была изначально заложена в мозге ребенка, ожидая своей актуализации. Должна быть, постулирует Хомский, «врожденная структура, которая достаточно богата, чтобы компенсировать несоответствие между приобретенным знанием и опытом, на основе которого это знание было получено».
Эта врожденная структура, эта латентная, дремлющая структура при рождении сформирована и развита еще не полностью; не проявляется она и в возрасте около полутора лет. Но потом вдруг неожиданно ребенок открывается навстречу языку и приобретает способность пользоваться грамматическими конструкциями на основании высказываний своих родителей. Таким образом, ребенок демонстрирует поистине гениальные способности к языку в возрасте между двадцатью одним и тридцатью шестью месяцами (этот период одинаков у всех нейробиологически здоровых человеческих существ, как у глухих, так и у слышащих; иногда происходит задержка речевого развития, но, как правило, она сочетается с другими признаками психической задержки); затем способность к усвоению языка уменьшается и исчезает к окончанию периода детства (приблизительно в возрасте двенадцати-тринадцати лет)[76]. Это, выражаясь термином Леннеберга, есть «критический период» для усвоения первого языка – единственный период, когда мозг буквально с чистого листа способен полностью активировать грамматику. Родители играют здесь важную, но всего лишь вспомогательную роль. В критический период язык развивается сам, «изнутри», а родители (если воспользоваться сравнением Гумбольдта) всего лишь «протягивают путеводную нить, идя вдоль которой язык развивается по своим собственным законам». Этот процесс больше похож на созревание, чем на обучение, – врожденная структура, которую Хомский иногда называет устройством приобретения языка (Language Acquisition Device, LAD), органично растет, дифференцируется и созревает, как эмбрион.
Беллуджи, говоря о своих ранних, совместных с Роджером Брауном работах, подчеркивает, что это ощущение было для нее главным чудом языка; она рассказывает о первой совместной статье, где описывался процесс «индукции латентной структуры» предложения у ребенка, и вспоминает заключительную фразу статьи: «Очень сложная одновременная дифференциация и интеграция, которая представляет эволюцию именной группы предложения, больше напоминает биологическое развитие эмбриона, нежели выработку условного рефлекса». Вторым открытием в ее лингвистической карьере, говорит Урсула Беллуджи, было осознание того, что эта чудесная органическая структура – сложный зачаток грамматики – может существовать и в чисто визуальной форме, что и происходит при усвоении языка жестов.
Кроме того, Беллуджи изучала морфологические процессы, происходящие в американском языке жестов, то есть процессы изменения знака с целью выражения различных значений с помощью грамматики и синтаксиса. Было очевидно, что чистый лексикон «Словаря американского языка жестов» был лишь первым шагом, ибо язык есть нечто большее, нежели его словарный состав и код. (Например, индийский язык жестов представляет собой обычный код, то есть собрание или словарь знаков, причем сами знаки не имеют внутренней структуры и не могут быть модифицированы грамматически.) Истинный же язык постоянно модифицируется самыми разнообразными грамматическими и синтаксическими средствами. В американском языке жестов таких средств великое множество, что служит упрощению основного словаря.
Так, существует множество форм знака «СМОТРЕТЬ НА» («смотреть на меня», «смотреть на нее», «смотреть на каждого из них» и т. д.), каждая из которых образуется самостоятельным способом: например, знак «смотреть на» выполняется движением одной руки, направленным от говорящего; но если он хочет сказать «смотреть друг на друга», то движения одновременно выполняются обеими руками навстречу друг другу. Для выражения длительности действия существует ряд изменений основной формы слова (рис. 1); так «СМОТРЕТЬ НА» (а) можно видоизменить так, что знак будет означать «смотреть внимательно» (б), «смотреть непрерывно» (в), «уставиться» (г), «наблюдать» (д), «смотреть долго» (е) или «смотреть снова и снова» (ж). Кроме того, есть множество знаков, производных от «СМОТРЕТЬ» и обозначающих «вспоминать», «обозревать окрестности», «ожидать», «пророчествовать», «предсказывать», «предчувствовать», «бесцельно озираться по сторонам», «прочесывать» и т. д.