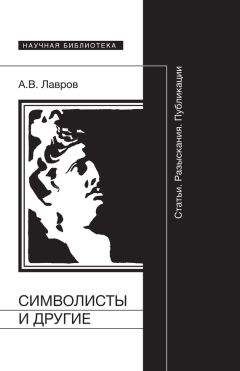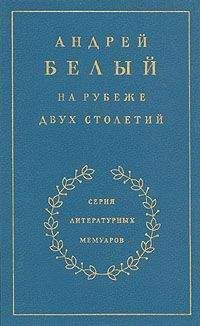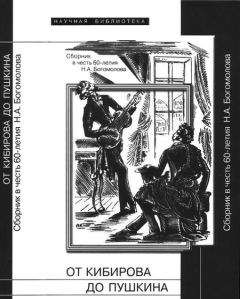Всеволод Багно - На рубеже двух столетий
Феномен «танцующего» Берлина явно включается в феноменологию Эдмунда Гуссерля и Макса Шелера первой половины XX века, где важное место принадлежало понятию другого. Однако в отличие от Гуссерля и Шелера, у которых это понятие имело более отвлеченный, метафизический смысл, российские мыслители, например Михаил Бахтин или Семен Франк, соотнося его с феноменом события (Mitsein), подчеркивали не столько противостояние, сколько связь другого с окружающим миром. Это оставалось общим у Бахтина и Франка, несмотря на то что первый исходил прежде всего из суждения отдельного человека, а второй, во избежание раздвоения человеческой личности, оставался сторонником философии Всеединства[1768]. В целом же, как пишет современный исследователь, «типологическим признаком общности русских концепций „я/другой“» является их «эстетическая насыщенность», а «смысловое задание диалогического взаимораскрытия одного „я“ мыслится как дольний вариант богообщения»[1769].
Общей позиции российских мыслителей наиболее близка точка зрения Мартина Бубера, изложенная в его книге «Я и Ты» («Ich und Du»), изданной в Берлине в 1922 году. Здесь отношения между «я» и «ты», полагаемые автором не в последнюю очередь как отношения к божественному началу, не только рассматривались как диалогические: партнер в диалоге представал в качестве другого, в котором «я» испытывало непреодолимую потребность, более того, признавало этого другого «своим иным». Важно отметить, что и во второй половине XX века постижение национальной ментальности, являясь составной частью изучения истории любого народа, закономерно связывается с поиском другого в другом[1770], оказывается в центре мировоззренческих исканий эпохи.
В своей работе 1920-х годов «К философии поступка» Михаил Бахтин рассматривал противопоставление я и другой как «высший архитектонический принцип действенного мира поступка», как «два разных, но соотнесенных между собой ценностных центра», вокруг которых «распределяются и размещаются все конкретные моменты бытия»[1771]. Это противостояние Бахтин мыслил как в мире реальном, так и в художественном, в частности в литературном. По Бахтину, другой видит то, что не дано увидеть субъекту: взгляд другого изначально и в прямом смысле исходит из иной тонки зрения, иной данности и обладает иной, более широкой перспективой. Чтобы стать автором литературного произведения, даже автобиографии, человеку необходимо обрести некий взгляд со стороны, то есть взгляд другого, ибо без него невозможно обобщить («закруглить») собственную жизнь. Таким образом, я и другой необходимо вступали в диалог, становились диалектически подвижными, что, по всей очевидности, оказывалось чрезвычайно важным именно для литературы изгнания. С одной стороны, многие изгнанники чувствовали себя в Европе чужими (другими), вместе с тем их самооценка и поступки в значительной степени корректировались отношением к ним европейцев (других).
Обозначенное Бахтиным философское противопоставление стало особенно актуальным и даже получило известный практический смысл в 1920-е годы, когда вследствие исторических катаклизмов, связанных с мировой войной и революцией в России, пришли в движение огромные человеческие потоки: с востока на запад двигались изгнанники, беженцы, посредники, миссионеры. Великий исход из России сформировал особый тип личности, долгое время воспринимавшей изгнание как путешествие и сохранявшей — относительно западного мира и его представителей — взгляд и оценку другого. В «Философии поступка» Бахтин, в частности, писал: «Я и другой суть основные ценностные категории, впервые делающие возможной какую бы то ни было действительную оценку»[1772].
Следует особо отметить, что Бахтин видел выражение «пассивной активности», попытку «приобщиться к другости» именно в танце:
В пляске сливается моя внешность, только другим видимая и для других существующая, с моей внутренней, самоощущающейся органической активностью; в пляске я наиболее оплотневаю в бытии, приобщаюсь к бытию других…[1773]
Исходя из такого постулата, можно предположить, что Андрей Белый «пропускал через душу свою» чужие (другие) ритмы не только в надежде преодолеть личный кризис, собственное одиночество, но и приобщиться к «бытию других».
В этом феномене сглаживались даже идеологические аспекты восприятия берлинской жизни, почти не отличаясь от общей критической оценки немецкого быта, вызывавшего отторжение не только у гостей из Советской России, но и у эмигрантов из нее. Неприятие «животной роскоши», с которой богатые берлинцы обставляли в то время свою жизнь, появлялось даже у протагониста романа Владимира Набокова «Дар», хотя, по его собственному признанию, Берлин уже утратил в его глазах «дух заграничности»[1774].
Именно в книге о Берлине Андрей Белый заново открыл для себя Москву. Сравнивая ее с Берлином, он отмечал, что старая русская столица не производит на него тягостного впечатления: это живой город, перенесший тяжелое испытание: разрушено все, но душа сильна и светится в глазах людей. Это казалось Белому залогом будущего: он словно почувствовал себя на твердой почве. Берлин же внешне не изменился — только чуть поблек и отстал от моды и поэтому казался умирающим, будто и не было здесь никакой революции, хотя внутренний слом жизни очевиден. Белый считал Берлин, как, впрочем, и Петербург, принадлежащим египетскому «царству теней», царству тления и смерти; бегство из старой Европы оборачивалось бегством от смерти.
Символично, что Андрей Белый, один из основных создателей «петербургского текста» русской литературы, вернулся в Москву и в творческом смысле. Его замысел романа «Германия» не был осуществлен, зато в 1930-е годы как своего рода «антимодель» романа «Петербург» явился роман «Москва». И хотя Петербург казался городом иностранным и западным, его «эфемерность», по мнению Николая Бердяева, была чисто русского свойства. Уже в 1916 году Бердяев почувствовал в романе Белого «Петербург» «уничтожающую любовь к России», в которой «монгольский» Восток раскрывается в самом русском Западе. Бердяев предсказал, что Белый непременно вернется в Россию и «в глубине России будет искать света»[1775].
Так и случилось. Танцы Белого в берлинских кафе как будто зримо обозначили его «друговость» по отношению к берлинской жизни, к Германии в целом, и, говоря словами Бахтина, его внутреннюю потребность «оплотнеть» в ином бытии России.
Галина Тиме (Санкт-Петербург)Трилистник юбилейный с субботним приложением
Александр Блок списывал поэта Петра Потемкина в обоз символизма, в «нестроевую роту»[1776]. Переживший Блока на пять лет Потемкин («Во всяком случае, искренний — не знаю как человек, но искатель искренний»[1777]) к войсковой иерархии относился, похоже, равнодушно и, как и некоторые другие поэты его поколения, подчеркивал поэтово равенство в анонимности, замечая о цветаевских «Стихах к Блоку»:
Она действительно сохранила от тления частицу А. Блока, пусть маленькую, пусть только по-женски, но разве вечно-женственного не искал покойный? <…> И важнее всего <…>
Последнею славой
Встаешь — безымянный.[1778]
Но при этом «певец веселья и ночных петербургских фей»[1779], в ту пору, когда, по словам В. Пяста, «из серафической и мистической лирики Блока Потемкин брал ее „человеческие, слишком человеческие“ стороны и излагал, и еще „уплотнял“ их»[1780], более всего обязан своим образом мира, пожалуй, одному стихотворению Блока, которое он, вероятно вследствие своего рода страха влияния, «не вполне прилично» и «бранчливо» высмеивал («И „Незнакомка“ — детский писк»)[1781]. Это блоковское стихотворение он помянул и в своем экспромте в ноябре 1909 года:
Я много выпил влаги винной,
Но не увидел в этом проку.
И вот теперь иду с повинной
К любимцу муз и вакха — Блоку.
О Блок! Скажи, какие марки
Тебе приятней в марках вин?
Глоток ли джина, рюмка ль старки,
Шартрез, Икэм, Бенедиктин?
И напиваясь ночью летней
Иль зимней ночью допьяна,
Пьянел всего ты незаметней
Не от бордосского ль вина?
Верь, мой вопрос не казуистен,
Хочу одно — добиться проку.
В вине ли истина из истин?
Поверят ли поэту Блоку?[1782]
Особо-личное отношение к всероссийски популярному блоковскому шедевру объясняется тем, что Потемкин был одним из первых слушателей дачной баллады Блока (правда, некоторые обстоятельства он запомнил неточно[1783]), о чем он написал восемнадцать лет спустя заметку для пражской русской газеты, не вводившуюся пока в оборот современного блоковедения: