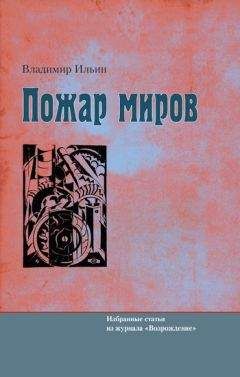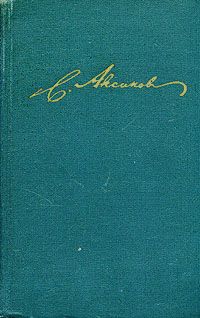Михаил Гаспаров - Избранные статьи
Если тема прошлого, тема дружбы в стихах Овидия развертывается наименее парадоксально, то тема будущего, тема надежды на помилование — наиболее парадоксально. Мы уже говорили о том, насколько психологически необходимо для Овидия было смягчение наказания, воссоединение с миром культуры, возвращение от смерти к жизни. Тема эта затрагивается, хотя бы мимоходом, почти в каждом стихотворении: из описания невзгод она служит естественным выводом, в обращениях к друзьям — естественной просьбой о заступничестве. Овидию нужно было представить ее наиболее действенным способом — таким способом и оказался парадокс.
С одной стороны, поэт полностью и безоговорочно признает себя виновным: он не упускает ни единого случая упомянуть о своей вине, будь то «Наука любви» («лучше бы мне никогда не писать ее!») или загадочный «проступок» (мы видели, с каким непонятным упорством вновь и вновь касается Овидий этого пункта). С другой стороны, поэт твердо надеется на милосердие Августа — он все время подчеркивает сравнительную мягкость постигшего его наказания — не «изгнания», а «ссылки» (С. IV, 4, V, 2, 4, 8, 11 и др.) — и верит, что в своей снисходительности Август пойдет и далее (С. III, 4, V, 4, 8 и др.). Объяснение этого парадокса — в том же несовпадении «быть» и «казаться», которое было и причиной гонения на поэта. Овидий был наказан за то, что он воспевал Августов режим таким, каким он был, а не таким, каким он хотел казаться, — теперь он надеется на помилование за то, что он описывает режим именно таким, каким тот хочет казаться. «Милосердие» было официальным лозунгом Августа с самых ранних его политических шагов; восхваляя милосердие правителя, поэт только повторяет слова Августа и надеется, что тот что-нибудь да сделает в подкрепление собственных слов. Овидий как бы принимает предложенные ему правила игры: ему предоставлена роль справедливо наказанного преступника — он честно играет ее; Август взял на себя роль милосердного властелина — Овидий надеется, что он тоже честно сыграет ее, и со своей стороны изо всех сил ему подыгрывает, переходя всякую меру в славословиях Августу.
Современному читателю эти славословия претят. Когда Овидий без конца называет Августа богом (ни у Вергилия, ни у Горация это еще не вошло в столь прочную привычку), когда он простирается перед ним с молитвой (С. V, 2), когда он исходит умилением перед медальоном с лицами Августа, Ливии и Тиберия (П. II, 8), когда он спешит воспеть триумф над Германией, не зная, что сам Август его отменил (С. IV, 2), когда он, дождавшись, наконец, заочно воспевает триумф над Паннонией — шествие победителей, ликование народа, ожидание еще более громких побед (целый цикл стихотворений 12–13 гг.: П. II, 1, 2, 5, III, 3, 4), — в устах поэта-изгнанника это кажется вопиющей неискренностью. Это не так. Здесь нет неискренности — есть лишь осознанная условность. Заключается она в том, что имя «Август» для Овидия — такой же условный символ всей римской современности, как слово «смерть» — символ одиночества, а слова «лед» и «яд» — символы невзгод изгнания. Разницу между символическим Августом, Августом-богом, и реальным Августом, Августом-человеком, Овидий хорошо помнит и иногда даже подчеркивает ее: наказан он был Августом-человеком, способным ошибаться, как всякий человек (вряд ли он даже прочитал внимательно «Науку любви», этот состав Овидиева преступления, — С. II, 31–32; вряд ли он даже представляет себе, что такое Томы, этот край Овидиева наказания, — П. I, 2, 71–72), а помилования ждет от Августа-бога, милосердного, как истинный бог. Но условность эта принята Овидием искренне. Он убедился, что те правила игры, которым он следовал смолоду, не удовлетворяют партнера, — и он перешел на новые правила игры. Выходить из этой игры (как вышел бы философ) Овидий не хочет, потому что понимает, что игра идет высокая — борьба культуры против варварства, и в этой борьбе он с Августом заодно, что бы ни думал по этому поводу Август. А что играть без правил нельзя, что вся жизнь человека в обществе — это игра, он знает еще с тех лет, когда все свои «Любовные элегии» и «Науку любви» он написал, по существу, именно о том, как даже в любви человек думает «да», а говорит «нет», и наоборот.
Вот почему Овидий так упорствует в своем парадоксе: чем безоговорочнее он признает свое преступление, тем больше его уверенность в Августовом милосердии. Что Август сам давно вышел из игры и следит за его стараниями равнодушно и со стороны, этого он не мог и не хотел себе представить.
10Наконец, четвертая из главных овидиевских тем — это поэзия. Она тоже предстает перед читателем в парадоксе, и даже в тройном. Стихи погубили поэта, однако не погибли с ним в изгнании — Овидий страдает в Томах, а стихи его (сообщают ему римские друзья) исполняются в людных театрах и имеют успех (С. V, 7). Стихи погубили поэта, однако они же и спасут его — он умрет, а они останутся в веках и сохранят ^го имя для дальних потомков. Стихи погубили поэта, однако они уже спасают его — слагая их, он забывает о своих страданиях и упражняет свой слабеющий дух. «Так спутники Улисса погибали от лотоса, но не переставали наслаждаться им, так влюбленный держится за спою любовь, хоть и знает, что она его губит» (С. IV, 1, 31–34).
Контраст между смертностью поэта и бессмертием его стихов древнейшая тема поэзии; в античной лирике с самых давних времен у поэтов было в обычае упоминать в стихах свое имя, чтобы сохранит! его навек. Гораций закончил свой сборник од знаменитыми стихами про памятник «вечнее меди», и Овидий почти дословно повторил их в заключении своих «Метаморфоз». Но в понтийских стихотворениях Овидия эта тема получила новую, еще не испробованную разработку. Мысль о том, что поэт и стихи его — совсем не одно и то же, была для Овидия одним из оправданий в его защите перед Августом: «стихи мои могли быть легкомысленны, но жизнь моя была чиста» (С. II, 345–360; впервые в римской поэзии это оправдание появляется еще у Катулла). Поэтому для Овидия становится особенно важно разделить в себе человека и поэта — как бы два лица, для которых поэзия имеет совсем разное значение.
Собственно, именно этому посвящена одна из самых известных «Скорбных элегий» Овидия (С. IV, 10) — автобиографическое заключение четырех книг этого цикла (которыми, по-видимому, поэт сперва хотел и ограничиться). Здесь нет ничего похожего на традиционный образ вдохновенного поэта, который велик (а иногда смешон) оттого, что его устами говорит не он, а обуявшая его божественная сила. Творчество здесь изображено не как высокое и мучительное служение, а как приятное, добровольно избранное занятие: Овидий пишет не потому, что боги велели ему о чем-то поведать миру, а просто потому, что это ему доставляет удовольствие. Так было в Риме, так продолжается и в ссылке: «обманываю время, коротаю день» (ст. 114). Тем самым поэт отказывается и от притязаний на славу: награда ему — сам процесс труда, а не результат труда. Если же слава все-таки приходит к нему, то лишь как нечаянный подарок судьбы; и если за радость творчества он благодарит Музу, то за славу творца благодарит читателя.
Этот образ доброго поэта-обывателя — новый в латинской литературе (зачатки его можно найти у Катулла, но между пылкостью зачинателя Катулла и благодушием завершителя Овидия — огромное расстояние). Однако он не вытеснил у Овидия традиционный образ вдохновенного поэта-пророка: они сосуществуют. Когда Овидий пишет очередную элегию о невзгодах ссылки, привычно прося прощения у друзей за небрежность формы и унылость содержания (С. III, 14, V, I, 7, 12; П. I, 5, III, 9, IV, 2), то он всячески подчеркивает, что пишет лишь для себя, чтобы успокоить душу (С. V, 1, 63–64), а посылает написанное в Рим лишь из дружбы и для пользы своей судьбе, а вовсе не для славы (С. III, 9, 55–56). Когда же он готовится к смерти и задумывается над своей посмертной долею (С. III, 3) или обращается к молодому поэту и убеждает его быть верным своему призванию, не пугаясь его, Овидия, судьбы (С. III, 7), или запевает хвалу победам Августа и Германика (П. II, 1, III, 4 и др.), то он радостно возвращается к высоким мыслям о том, что в человеке бессмертны лишь дух и дар (III, 7, 43–44) и что стихи его будут памятником ему во все века, пока Рим владеет миром. Так двоится в сознании Овидия образ поэта: так самая близкая ему тема, включаясь в игру, тоже оборачивается в стихах не лицом, а маской, и даже двумя.
Тема поэзии объединяет для Овидия его прошлое, настоящее и будущее: поэзия — это лучшее, что знал он в прожитой жизни, это опора ему в нынешних страданиях, это залог его доброго имени в потомстве. Именно в поэзий полнее всего и вернее всего запечатлевается поэт: «Муза — непогрешимый свидетель всех моих несчастий» (П. III, 9, 49–50), «я сам — содержание моих стихов» (С. V, 1, 10). Это звучит почти по-современному, как программа самовыражения личности, и все-таки это нечто иное: для поэта нового времени стихи служат комментарием к его личности, для античного поэта его личность служит комментарием к стихам. Главная цель поэзии Овидия — упорядочить хаос мира вокруг себя и хаос чувств внутри себя; это он делает, намечая такие-то тематические линии и связывая их между собой таким-то образом; а почему именно такие и именно так, тому служат объяснением обстоятельства его жизни, о которых он и уведомляет читателя.