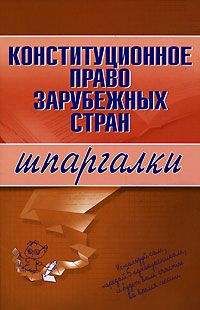Владимир Тендряков - Собрание сочинений. Т. 1. Повести
Исхоженная тропинка, знакомая до последней выбоины, до последней вмятины — вслепую пробежишь, не споткнешься. Скорей, скорей… А за спиной вразброс — огоньки деревни, родной деревни, в которой уже больше не жить Насте — изба-то разобрана по бревнышку.
На дверях тяжелый амбарный замок, ключ от него из рук в руки днем передала Павле. Из рук в руки ключ с веревочкой… Скинула варежку, в варежке, в кулаке, давно уже грелся ключ, точно такой же… Кому знать, что их были два, один запасной все время лежал на полочке в кормокухне над дощатым столом.
Тяжелый замок послушно распался, толкнула дверь. Сквозь шаль ударило в лицо тепло и густой запах, привычный запах, с него у Насти всегда начинался рабочий день.
Поплотней прикрыла за собой дверь, свет не зажгла. На минуту представила себе: во сне за стенкой вздыхает хряк Одуванчик, в густом воздухе сопение, шевеление — жизнь, скрытая от белого света, жизнь — сон да еда, тяжелеющие сутки за сутками туши сала и мяса. Сейчас обрушится на них беда, оборвется эта сонная жизнь…
И екнуло сердце — вспомнила Кешку. Самый верный, самый любящий…
Достала коробок спичек, рванула с лица душившую шаль. Пальцы тряслись, спички ломались.
— Ох ты, господи! Пропади все пропадом!
Вспыхнул огонек, испуганно закрыла его ладонью — вдруг да в окно увидят, — оглянулась… Под топкой охапка сухих дров, рядом охапка соломы, скамьи, шаткий столик, пустые ведра, лопата. А где же бутыль с керосином?.. Ах, вот она.
Спичка погасла. Темнота, тишина, жизнь за стеной, та жизнь, которую она, Настя, изо дня в день поддерживала своими руками. Матки Роза, Рябина, Канитель — ныне каждая гора горой, — их когда-то за пазухой носила, из бутылочек прикармливала. Не ели, тощали — горе; стали есть, резвиться — радость. Любой из поросят был ее ребенком, оглаживала, обхаживала, ласковые слова находила. И теперь надо чиркнуть спичку. Одна спичка — и обрушится беда. Одна спичка — и смерть Розе, Рябине, Канители, Кешке. И Кешке. И Кешке тоже…
Коробок спичек в руках. Может, не чиркать эту спичку? Добро бы только судили, не суд страшен, поди, много не дадут, помилуют, но позор на веки вечные, всяк плюнет в ее сторону, от опозоренной жены муж уйдет, мать с горя в гроб ляжет, и даже дома нет, кучей бревна лежат… Пожалей свиней, они дороги, спаси их, а сама гибни. Что дороже — они или жизнь?
И дрожащими руками Настя нащупала впотьмах бутыль, вытащила тряпичную затычку. Веселенько забулькал под ноги керосин, его резкий запах заполнил кормокухню…
Помещение давнее, выстоявшееся. Стены бревенчатые, а крыша тесовая. Между тесом — пласты бересты, «скала». Если тес погниет, то скала-то останется целой, не пустит дождь. Такие «заскаленные» крыши стоят десятки лет… Керосиновый запах, одна спичка в солому…
«Пожар устраиваешь, знаменитость?..» А что еще?.. На чужой повети в петлю голову сунуть? Она в Загарье, ее видела и Маруська, ее видел в банке Сивцов, видел в райкоме инструктор Лапшев, каждый от нее слышал, что остается ночевать. И это правда, ночевать-таки она будет в Загарье, через какой-нибудь час с небольшим подойдет автобус, она сядет — шаль до бровей, полушубок с чужого плеча…
«Марусенька, ох, закрутилась я…»
У Маруськи для нее разобрана кровать, перина застлана чистыми простынями.
А утром:
— Батюшки! Настя! Беда у тебя!
Беда!! Всполошится, бросится опрометью, забудет про справки для матери, не дождется Пухначева, кого хотела непременно видеть. Беда! Скорей! На одну ночь только отлучилась! Что за растяпа Павла!..
Свиней жаль — нянчила, выкармливала. Не изверг же она, душа кровью обливается. Но или они, или ты, задави жалость, Настя. За мужа, за дом родной, за всю жизнь свою, если не хочешь потерять, — одна спичка…
Но рано… Не зря же Настя не спала всю ночь — продумала. Свинарник наглухо закупорен, огонь может и задохнуться. Настя ощупью добралась до окна, локтем в полушубке выдавила одно стекло, второе, легкий морозный воздух ворвался в керосиновую вонь кормокухни.
Одна спичка… Но Настя медлила, переминалась, наконец решилась. Толкнула внутреннюю дверь в свинарник, позвала сдавленно:
— Эй, Кешка!
Даже он, дурачок, спит, даже он не учуял, что пришла…
Кешка завозился в глубине.
Все свиньи заперты за загородками, один Кешка умеет рылом сбивать задвижку. Это каждому известно в колхозе. Кешка знаменит, как и Настя. Никто не подивится, что один Кешка вырвался из огня.
— Эй, Кешка!
И он выскочил, ткнулся, повизгивая, в колени — счастлив негаданной встрече. Настя приоткрыла дверь на волю, вытолкнула Кешку.
— Гуляй, лапушка, живее…
Теперь все. Одна спичка!
И спичка вспыхнула, плеснуло пламя, лихорадочно зарумянились бревенчатые стены, в глубине свинарника стариковски вздохнул не ведающий о беде хряк Одуванчик. Настя шарахнулась к двери, распахнула ее, еще раз оглянулась назад на освещенные в веселой трясучке бревенчатые стены, выскочила, непослушными руками навесила замок, повернула ключ…
Пуста дорога, сыплет снежок. Пуста дорога, темна ночь, за спиной спокойно теплятся окна родной деревни, соседи Насти, знакомые Насти собираются спать. Пуста дорога, кто в такую ночь покинет перед сном теплую избу?
Можно бы и не спешить, не скоро подойдет автобус, но ноги несут.
Подойдет автобус, Настя сядет в него — чужой полушубок, закутано шалью лицо. Сядет и задремлет…
«Марусенька, ох, закрутилась я…»
У Маруськи приготовлена перина под чистой простынью. А утром:
— Батюшки! Настя! Беда у тебя!
Пуста дорога… И вдруг вздрогнула — тяжелое посапывание сзади, кто-то нагоняет. «Ой, дурень, совсем испугал — ноженьки подкосились». Кешка бежит следом, верный Кешка, спасенный от огня. Все будут считать — ловкач, вырвался…
Кешка привычно ткнулся в колени.
— Кыш! Иди-ко, любый, иди. Покуда сам живи. Авось завтра встретимся…
Отогнала Кешку, снова побежала — счастье великое, что пуста дорога, навел бы дурень тень на плетень, долго ли…
Кешка — ни на шаг, бежит, повизгивает от страха. И до Насти дошло: ведь не отстанет, так и проводит до автобуса. Дорога-то пуста, а на тракте — люди, того же автобуса ждут. Даже если и нет никого по позднему часу, то из автобуса наверняка увидят — свинья на дороге, это ночью-то, за бабой увязалась, почему бы это? И узнают Настю, и все пропало!
— Кыш! Погибель моя! Кыш, дьявол! А он врезался с разгона в подол.
— Кыш!! — мягким кулаком в варежке — между глаз, коротко взвизгнул, отскочил, Настя кинулась от него.
Сопение сзади, нет, не отстанет. И зябкий мороз охватил под полушубком — беда негаданная, как смерть по пятам. Сама выпустила, пожалела, расплачивайся опять за жалость-то.
— Ах ты, злыдень! Ах ты, отродье дикое! — Руки трясутся, под полушубком по потной спине гуляют морозные мурашки.
Увернулась от Кешки, бросилась с дороги, упала на колени, стала судорожно шарить варежками: «Камень бы покрупней… Отвадить бы сатану, ни дна ему, ни покрышки…»
Но под слоем снега руки нащупывали лишь комья мерзлой земли. Бросалась ими:
— Провались ты, треклятый! Сгинь!
Кешка вился вокруг большой тенью, повизгивал. Настя ползла на коленях, глотала слезы:
— Знать бы… Эх, знать бы… Да я б тебя, поганого!..
Наконец-то подвернулась булыга, крупная, тяжелая, в коросте снега, смерзшейся земли. Сжала ее варежками, поднялась. Кешка маячил в стороне, уже пуганный, уже не доверяющий.
— Кешенька, иди, голубчик. Подь сюда, глупый… — Голос елейный, со слезой. — Да иди, сатана, поближе, иди!
И он бочком придвинулся. И грузный камень опустился на морду, и по темному полю пронесся морозящий кровь визг. Кешка исчез в темноте, а визг рвался в ночи, надрывный, оскорбленный, горестный.
И тут произошло невероятное. Настя словно проснулась от визга, вдруг увидела себя со стороны, отчетливо и безжалостно — среди серого заснеженного поля, накрытая глухой тьмою, преступница, прячущаяся от людей, прячущаяся, потому что перестала быть похожей на них. Все на ласку отвечают лаской — она подымает камень, за почет, за уважение бросает спичку — нет ничего святого, гори ясным пламенем. И вопят сейчас в смертельном ужасе свиньи. Гори все, ее труд, ее прошлые радости и беды, гори все живое, поднятое ее руками! Вопят там сейчас свиньи. И перед лицом падает снежок, падают вялые хлопья, напоминающие умерших подёнок, августовскую счастливую ночь, реку, лодку, Веньку Прохорёнка, свою молодость. Сама себе страшна, сама себе противна — одинокий выродок среди ночного поля. Вопят свиньи…
Настя стояла так минуту, не больше, ровно столько, чтоб успел замолкнуть побитый Кешка. Сорвалась, бросилась обратно к деревне, туда, где люди, где пожар, где вопят свиньи. Туда, к своим!
Пот заливал глаза, сорвала на бегу шерстяную шаль, бросила. Дыхание спирает, ноги путаются, с остервенением рвала пуговицы на полушубке, скинула его. Бежала дальше, простоволосая, в одном платье, с хрипом дыша, не чувствуя мороза, спотыкаясь, падая, вновь подымаясь.