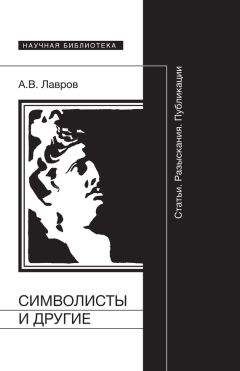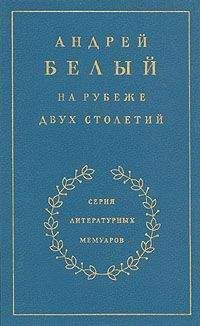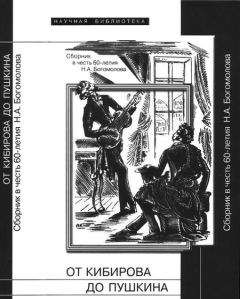Всеволод Багно - На рубеже двух столетий
Таким образом, будучи новаторами в эстетической сфере, в сфере литературного быта символисты придерживались архаичных (для конца XIX — начала XX века) романтических антирыночных установок. В реальности, разумеется, прожить с такими установками было нельзя, поэтому, несмотря на все декларации, по мере расширения своей аудитории литераторы-символисты начинали входить в общую литературную систему и подчиняться законам рынка.
Абрам Рейтблат (Москва)Ф. Сологуб и наследие герметизма в России начала XX века
(к символике «Творимой легенды»[*])
«Творимая легенда» — сколь ни была бы своеобразна поэтика этого романа — может быть рассматриваема как пандан к «Мелкому бесу». Соотносимость двух творений подчеркнул сам автор, связав их фигурой Передонова. В предисловии к 5-му изданию «Мелкого беса» Сологуб лишь иронически намекнул на незавершенность судьбы его главного героя, отметив, что — кажется — он поступил на службу в полицию и стал советником губернского правления, словом, «делает хорошую карьеру», но в предисловии к 7-му изданию этого романа он прямо отослал к «Творимой легенде» как к продолжению повествования о судьбе Передонова: «Внимательные читатели моего романа „Дым и пепел“ (4-я часть „Творимой легенды“), конечно, уже знают, какой дорогою идет теперь Ардальон Борисович»[1524]. Эта непосредственная отсылка к фигуре, в фабуле второго романа эпизодической, указывает на ее смысловую весомость. В самом деле, сделав параноика-убийцу вице-губернатором и таким образом превысив его самые смелые мечты о карьере, не поднимавшиеся выше надежд на место инспектора, Сологуб выявил сумасшествие Передонова в качестве квинтэссенции безумия социальной структуры, обеспечивающей ему максимум успеха как наиболее адекватному структуре существу. Поместив Передонова на вершину инспекторской иерархии, призванной регламентировать деятельность Триродова, Сологуб столкнул протагонистов двух своих романов как воплощения двух противоборствующих тенденций бытия. На универсальную роль этих фигур обратил внимание уже К. Чуковский, по словам которого в писаниях Сологуба представлена «вечная, в сущности, схватка Триродова и Передонова <…> и странно следить, с каким однообразием во всех своих драмах, трагедиях, притчах <…> на тысяче арен под тысячью личин, Сологуб изображает все тот же, все тот же турнир, все тех же непримиримых противников»[1525]. Следуя древней традиции, этот поединок можно назвать противоборством принципов инволюции (дегенерации) с принципами эволюции (регенерации).
Что передоновщина воплощает деградацию мира, его измельчание и падение в добиблейское состояние, отчетливее всего акцентировано концовкой «Мелкого беса», которой как бы опрокидывается и выворачивается наизнанку сцена жертвоприношения Авраамом Исаака (Быт, 22, 1–14).
Библиология и культурология констатируют, что в притче об Аврааме и событии на земле Мория нашел выражение гигантский перелом в истории человечества — переход культуры в принципиально иное состояние. Слова Ангела Аврааму: «Не поднимай руки своей на отрока, и не делай над ним ничего» (Быт. 22, 12) — вместе с появлением жертвенного барана в качестве субститута — знаменовали отказ от человеческих жертвоприношений, предписывавшихся многими добиблейскими верованиями и, в частности, ритуалами MLK (поклонения Молоху), требовавшими принесения в жертву мальчиков-первенцев. Сцена убийства Передоновым Володина, которой кончается «Мелкий бес», в сущности, фиксирует обратный процесс, указывая на регрессивный ход культуры, на возврат к человеческим жертвоприношениям и на перспективу бестиализации современного мира. Важно, что Володин ассоциируется не только с бараном, на что критикой многократно указывалось, но и с не достигшим зрелости подростком. На это намекает уже его фамилия, образованная от деминутива (Володин, а не Владимиров), на это намекает и сцена сватовства к Надежде Авраменко, где Передонов выступает по отношению к Володину как покровитель «недоросля», а Володин — в результате игровой подмены ролей — вынужден, но не может, по словам Передонова, «потягаться» с «мальчишкой», братом Надежды. Когда передоновский комплекс потенциального мальчикоубийства, заявляющий о себе серией садистских преследований мальчиков-гимназистов, реализуется в финале как убийство квази-мальчика и квази-барана Володина, этот акт «жертвоприношения», зеркально опрокидывая библейскую притчу о сути жертвоприношения, помечает новый поворотный момент в истории человека — момент деградации, момент падения в добиблейские времена.
Предвестьем этого момента служит зачин — первый абзац романа, где как нельзя более сильно подчеркнут унаследованный от Гоголя и многажды поддержанный дальнейшими сценами образ церкви и праздничной церковной обедни как образ опустошенной кажимости, того, что в мире лишилось онтологических оснований и сохраняется лишь как бессодержательная форма. Знаменуемая развоплощением церкви деградация духовных основ бытия дает о себе знать и в экспансии мелкой чертовщины, и в элементарной бестиализации жизни. Последнее акцентировано все более прочным сближением животных с людьми и людей с животными. Финальная сцена романа, где упоминание о Тараканьем монастыре и таракане вводит героя поэзии Лебядкина вместе с его социумом, уподобленным «стакану, полному мухоедства», где человеческая речь вытесняется «блеяньем», «кряканьем», «визгом» и, наконец, «несвязным и бессмысленным» «бормотаньем» (последние слова романа), демонстрирует процесс деградации (инволюции) как потерю слова и падение в дочеловеческое состояние.
Тот факт, что в глубоко провинциальном мире Скородожа «Творимой легенды» Передонов оказывается самым влиятельным официальным лицом, инспектирующим и контролирующим Триродова, свидетельствует о дальнейшем наступлении инволюции и тотальном господстве мелкой бесовщины в ее многочисленных социальных, идеологических, психологических проявлениях в виде черносотенства, еврейских погромов, уголовщины и т. д.
Но если в «Мелком бесе» ничто не может противостоять неуклонной деградации (а стилизующий эстетизм мира Людмилы представляет собой лишь ее сублимированную форму[1526]), то «Творимая легенда» сконцентрирована на попытке выявить силы, способные противоборствовать закону инволюции. Их средоточие — Георгий Триродов, справедливо названный «утопическим „я“ самого Сологуба»[1527]. Близость их можно было бы подтвердить многими деталями романа, вплоть до портрета Триродова.
Триродов — поэт, и его слово противостоит нечленораздельному бормотанию скородожского мира (что сказывается и на полюсах наррации). Еще более важно, что он — будучи доктором химии — выступает в роли преобразователя материи в самом широком смысле этого понятия. Он создает особые сплавы, воздвигая небывалую оранжерею — космический корабль, строение которого воспроизводит наиболее совершенную, согласно пифагорейству, форму — сферическую[1528], а «оранжерейное» содержание, в частности, намекает и на известную формулу «сад розенкрейцеров»[1529]. Триродов может собирать воедино, «одному ему знакомым способом»[1530], психическую энергию живых и отживших, создавая из них единства волевых устремлений, «для восстановления единой воли» (1, 156) как универсального «двигателя» мироздания: «…я не самовольничаю, — я сливаю свою волю с волею множеств и с Единою миродержавною Волей» (2, 8). Триродов может управлять формами существования, превращая полицейских в громадных клопов, передвигая границы жизни и смерти, спрессовывая наказуемого в куб и преобразуя его в вещь, извлекая детей из могил ради их инобытия, — словом, будучи утопистом-практиком (1, 46) и создателем экспериментальной школы, он оперирует также теми знаниями пифагорейского наследия, теургии и законов трансмутации, которые являют высшую форму алхимии и традиционно считаются привилегией герметизма розенкрейцеров[1531].
Само слово «розенкрейцер» в романе не произносится, однако на него намекает по-сологубовски прихотливая игра. Я имею в виду прежде всего случай с маркизом Телятниковым, который обратился к Триродову за эликсиром жизни, обладание которым банализаторы считали одной из основных тайн розенкрейцерства. Сверхъестественной биографией Телятникова — который, как сообщается читателю, родился в 1745 году и приобрел титул маркиза благодаря капризу Екатерины Второй — иронически подчеркивалось, что этот 160-летний поклонник умений Триродова является своего рода носителем старчески ущербной, но все еще живой памяти о новиковских временах первого расцвета розенкрейцерства в России. Концовка сцены, в которой маркиз Телятников, исполняя романсы и пренебрегши предупреждениями Триродова об ограниченности его сил, запел в 33-й раз и вдруг рассыпался, пав, таким образом, жертвой наивной веры позапрошлого века в беспредельность возможностей адептов тайных знаний, обыгрывает перекличку исторических реалий быта и представлений, подобных вере XVIII века в эликсир жизни, и поисков средств, продлевающих жизнь, в XX веке. Следует обратить внимание на то, что отмеченная сцена завершается инвективой исправника, то есть голосом государственной власти, которая, во всеоружии всей своей примитивности, явленной в грамматической структуре, синтаксисе и интонации высказывания, начальственно воспроизводит шаблонные формулы усредненного сознания: «Не извольте думать, что вы один химик. И кроме вас химики и физики найдутся, и ученые метафизики и алхимики. Эксперты сумеют добраться до первопричины всех причин, не извольте вам беспокоиться» (2, 88).