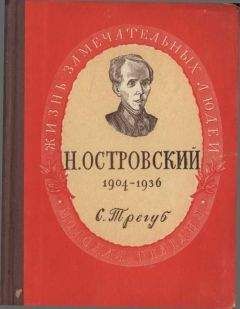К. Феофанов - Цивилизационная теория модернизации
Независимо от конкретного видения ситуации представителями нижестоящих уровней, реализуемые решения и инновации, как правило, имеют более высокое иерархическое происхождение и реализуются в конкретных, обязательных для исполнения, рекомендуемых действиях. Обязательность способов действия становится непререкаемой в условиях переходной и «плавающей» нормативности, когда моральные и правовые принципы получают значительный разброс в интерпретации и практическом применении. Работа механизмов право- и моралеприменения в российском управлении заслуживает самого детального внимания и изучения.
Авторитарный и далеко не позитивный характер большинства российских решений и инноваций не позволил в прошлом, не позволяет в настоящем и не позволит в будущем, до тех пор, пока сохраняются основы российской ментальности, то есть в продолжение обозримых перспектив развития России, перейти к верховенству правовых норм над политическими и узкособственническими интересами власти любого уровня. Данные особенности российского менталитета делают невозможным построение в России правового государства в западном понимании данного термина, создание которого, тем не менее, нередко провозглашается представителями российской властвующей элиты. Примечательно, что обоснование необходимости правового государства имело значительно большее хождение среди российских руководителей в 1990-е гг. с их характерным не всегда адекватным переносом западно-демократических постулатов на российскую почву. В эпоху Президента В. Путина утопические в российских условиях призывы сменились более реалистичными подходами, значительно менее настойчиво ставящими слабовыполнимые задачи.
Конечно, в России возможны отдельные успехи элементов того, что во всём мире называют «правовым государством». Меры управленческой и технологической модернизации, совершенствования законодательного регулирования в сфере госуправления и предпринимательства, конечно, создают «рамочные» правила игры, которых необходимо придерживаться даже вопреки ментальным стереотипам, но при этом подавляющее большинство населения считает их ненужными и противоестественными. Создавая дополнительный стресс, неизбежно компенсируемый алкоголизацией, разрушением семьи, непринятием власти и общественного строя, ненавистные «противоменталитетные» правила, конечно, будут вынужденно соблюдаться, но сразу будут отвергнуты в случае внешнего послабления.
Характерной особенностью управления в России, вполне соответствующей российскому менталитету (здесь в полной мере соблюдается известный «закон соответствия менталитета и менеджмента»), выступает клановый характер управленческой вертикали как единственного источника развития, доходов и ресурсов, её «обрастание» сетями связей паразитирующих на каждом уровне чиновников с многочисленными унитарными предприятиями, фондами поддержки и исследовательскими центрами (а также с теневыми и криминальными структурами).
Данные особенности российского управленческого менталитета в большей степени характерны для органов государственного управления, некоммерческих предприятий, организаций военно-промышленного комплекса и традиционных отраслей экономики с экстенсивным развитием. В меньшей степени они имеют место в мегаполисах, высокотехнологичных отраслях бизнеса, крупных коммерческих компаниях и «инофирмах». Рыночная экономика и технический прогресс там, где они реально имеют место, требуют большего профессионализма и создают дополнительные внешние мотивации для сотрудников (уровень оплаты труда, интересность высокопрофессиональной и высокотехнологичной деятельности, организация труда и трудовых отношений). Но даже в данных отраслях, несмотря на провозглашаемую западную рациональную рефлексивность, зависимость между усилиями, усердием и инициативой имеет более сложный, чем на Западе, характер, предполагающий бόльшую роль внешних мотивирующих факторов. Именно внешние факторы заставляют российских управленцев проявлять инициативу и решать имеющиеся проблемы, а внутренние мотиваторы далеко не всегда оказываются достаточными.
Сегодня практически реализуются отдельные управленческие и поведенческие инновации, но в масштабах всей России они отвергаются как противоречащие национальному менталитету. Рыночная экономика, хотя и задействует «внешние» механизмы безличного принуждения, сталкивается с более сильным «внутренним» ценностно-ментальным сопротивлением. Позитивно-управленческие импульсы российских реформ не доходят до реформируемого населения, растворяясь в частных интересах чиновников и повседневности укорененных в менталитете властно-коллективно-трудовых отношений. Если устойчивое развитие западных обществ обеспечивается гражданскими структурами, то есть доминированием горизонтальных социальных взаимосвязей (принцип «волчка» или «жироскопа»), то конфигурация российского общества пирамидальная, основанная на вертикальных взаимосвязях: властные структуры… граждане (точнее даже… население)47. Исторический опыт технологических и управленческих модернизаций показывает, что наиболее значимые изменения затрагивают технологический фактор, благодаря чему Россия каждый раз выходит на новую ступень в своём развитии. При этом практика управления подчиняется «вечным» ментально-цивилизационным постулатам, возвращаясь «на круги своя» после очередного модернизационного рывка (внешнего возмущения). Даже в ходе самого модернизационного рывка специфика российского управленческого менталитета нередко превращает отношения рыночных субъектов в нерыночные, вынуждая руководствоваться родственными, клановыми и коррупционными механизмами, а управленческая культура и структура значительно отстают от всё более усложняющихся задач.
Фактор глобализации, хотя и вносит серьёзные коррективы, также не меняет специфики национального менталитета. Глобализационные процессы ведут к информационно-технологическим изменениям, оказывают влияние на повседневную жизнь, быт, язык и культуру различных стран, но не могут полностью унифицировать национальные культуры, сохраняющие неотъемлемую специфику. Так организации в азиатских странах часто напоминают «семью», организации стран германской группы – «хорошо смазанную машину» с чёткими правилами и процедурами, организации стран британского содружества – «деревенский рынок» с коммуникацией как средством разрешения трудностей, латинские и ближневосточные культуры – «пирамиду» с характерно предписанными производственными процессами. Прагматичные американцы, консервативные британцы и пунктуальные немцы продолжают оставаться таковыми несмотря на значительное американское влияние. С другой стороны, это влияние всё же сказывается: например, в Великобритании стремление подражать США в используемых моделях управления привело к отсутствию как американского, так и азиатского динамизма, равно как и принципов долговременного инвестирования и социальной сплоченности, характерных для европейских стран48. Цивилизационные основы наций, включая ценностно-ментальные особенности, продолжают оставаться неизменными, обнаруживая новые формы адаптивных соответствий меняющимся условиям.
Серьёзным препятствием развитию, заложенным в ценностно-ментальной сфере, является недостаточное использование ключевого принципа эффективного управления – механизма обратной связи. Данный механизм позволяет корректировать управленческие процессы «на ходу», а не после их завершения, на основе информации об ошибках и проблемах, постоянно получаемой в результате сравнения текущего состояния с имеющимися нормативными требованиями. Ментальная неукоренённость принципов рефлексивно-рационального управления приводит к спонтанному, несистематическому и нередко случайному исправлению ошибок, оптимизации процессов и внедрению технологических и управленческих инноваций. Неприменение принципов рефлексивного управления нередко оборачивается расхлябанностью и невыполнением обязательств, явно противоречащими объективным требованиям российской рыночной экономики.
Проблема неукоренённости принципов рефлексивно-рационального управления и мышления, в сущности, свидетельствует о неспособности управленческих структур к своевременному и адекватному осознанию имеющихся проблем, реагированию на изменения и объективной самокритике. Демагогическая критика себя и других «для начальства», «для партнёров» и «для Запада» в целях создания видимости рефлексивно-рационального управления традиционно и в больших количествах задействуется в России. Подлинная же самокритика, способствующая оптимизации управленческих процессов, встречается не часто. Как отмечает А. Ахиезер, «метафизическая загадка такой самокритики может быть определена следующим образом: как измениться, чтобы эффективно воспроизводить себя, общество, государство, и вместе с тем остаться самими собой, сохранить культурную идентичность»49. Управленческие ошибки и жестокие политические уроки предыдущих российских модернизаций обусловлены именно недостатком рефлексивно-рациональных подходов, конструктивной критики над исторической инерцией50.