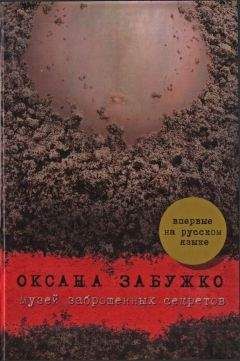Оксана Забужко - Музей заброшенных секретов.Главы из книги
Тут, правда, прибавлялось еще кое-что. Перед этими простыми сельскими парнями, твердыми, негнущимися и честными, как сама земля, он всегда чувствовал какую-то неясную вину. Это не было сугубо воинским чувством офицера к подчиненным, которых своей властью посылаешь на смерть, — чувство было тоньше, интимнее, можно сказать семейнее: ближе к глухой беспомощности любящего мужчины, не способного защитить тех, кого любит. Чувствовал себя при них виноватым за свое «панское» происхождение, за образование, к которому они испытывали традиционное украинское, чуть ли не набожное крестьянское почтение, за пережитые когда-то в Вене минуты ясного блаженства перед собором Святого Стефана и «Мадонной в голубом» Рафаэля, за то, что знал мир, который они не знали — и погибали, так и не узнав; даже общая смерть не могла бы в этом их уравнять. Не под гнетом ли этой вины он с годами становился все более впечатлительным, как романтический юноша, по отношению к той неизъяснимой, метафизической силе, что горела в них, как подожженный торф, и уже и его самого наполняла чуть ли не религиозным трепетом, — эта сила шла не от головы, не от прочитанных книг и идейного воспитания, а словно напрямую от самой земли, что их породила и с которой их спихивали, с хрустом топчась по ребрам, польские, мадьярские, московские и еще невесть чьи сапоги: от веками накапливавшегося в ней безмолвного, темного гнева… В сорок четвертом, оказавшись под Кременцом, он вместе с тремя бойцами зашел на хутор попросить воды, — пока хозяйка готовила им ужин, жарила яичницу и бегала в кладовку, которую в тех краях называли, на польский лад, спижарней, хозяин, нестарый, крепко сбитый дядька с дубленым, как кожа на сапоге, лицом, усадив их всех рядком, словно детей в школе на лавке под образами, стал допытываться, «за что же вы, хлопцы, воюете», — они достали из рюкзаков и выложили перед ним стопку брошюр, несколько номеров «Идеи и чина», Адриан, утомленный переходом, опьяневший от тепла и духа горячей пищи, говорил, как сомнамбула, привычными, проторенными предложениями, слыша собственный голос словно издалека и видя перед собой только завороженные мордочки трех хозяйских мальчиков, загнанных матерью на печь: они слушали оттуда его речь, словно ангельское пение, — и когда уже прощались, благодаря за ужин, и хозяйка щедро совала им обеими руками — вот возьмите еще, не побрезгуйте, чем бог послал! — хлеб, сало и остропахучее копченое мясо, дядька внезапно возник перед ними уже в кожухе, с выкопанной бог знает из какого тайника старой русской трехлинейкой и кожаной торбой и кивнул жене — снаряжай, мол, и меня, — а на ее вопль «Да ты что, старый дурак, рехнулся!» — ответил коротко и просто: «Марта, это же наша армия пришла!..» У Адриана от этих слов сжался комок в горле и долго потом не отпускал. Еле-еле удалось им тогда отговорить дядьку. Потом он встречал таких дядек по лесам немерено, не раз плечу к плечом с сыновьями, и видел, как они воюют, — и помнил тот комок в горле. Воевали не только вооруженные люди — воевала земля, яростно и непреклонно: каждый куст и холмик, каждое живое существо… Молодица стояла перед хатой, скрестив руки на груди, и смеялась краснопогонникам прямо в глаза — а он слушал, скрываясь за хатой, со взведенным наготове курком: «Ишь ты бойкая какая, а муж-та твой где?» — «А есть где-то, пан офицер, если ваши не убили!» — даже он обмер, ожидая, что те взорвутся, но молодица лучше его рассчитала внутренние силы сторон: пришлые почему-то обмякли и, погорланив еще немного для проформы, подались, отступили; «Дед, дай водички попить!» — дед, белоголовый и белобородый, высился над плетнем, как Саваоф, наблюдая, как шагает мимо него измученное чужое войско: два с половиной миллиона военных, целый фронт, возвращающийся из Германии, бросили Советы против них в сорок пятом, как слона к волкам, — и просчитались, ни единого выстрела тогда не прогремело: «Иди, — махнул рукой, будто благословлял, — пусть тебя большевики напоят», — каждый плетень, каждая лощина, каждая скирда оказывали сопротивление. Никогда еще не знала эта земля такой войны. Даже та вековечная мужицкая — воловья! — многотерпеливость и выносливость, так раздражавшая Адриана при Польше, неожиданно претворилась, как вода в вино, приобретя высший, грозный смысл: оказалось, что это вовсе не тупая покорность судьбе, как думал он, будучи гимназистом, когда бессонными ночами переворачивал в памяти жуткие сцены из Стефаника, кислотноедкие строфы «Моисея» Франко — «Потому что ты ощущал себя братом рабов, и это жгло стыдом…», теперь его жгло стыдом разве что оттого, что мог когда-то считать себя чем-то лучше, выше их. В действительности сила их самоотвержения оказалась больше, чем у него, — может, еще и потому, что каждый из них в отдельности никогда не считал себя чем-то особенным, и это естественное смирение и делало их внутреннее достоинство незаметным — на самом же деле оно было твердым и несминаемым, как закаменевший в засуху грунт под ногами; оставалось только поднести спичку. При свете военного пожара они впервые увидели себя на фоне истории — и, по-крестьянски поплевав в ладони, взялись за нее, как за плуг. «Марта, это же наша армия пришла!..» А в этой армии тебя, между прочим, ждет не только геройский подвиг и боевое братство, «завоюешь Украинскую державу или сгинешь в борьбе за нее», но и Стодоля ждет — как во всякой армии, всегда готовый разбудить и расстрелять за то, что заснул на посту. Плохо, конечно, что заснул: с такими вояками много не навоюешь. Но и войско наше — не «всякое», и борьба наша — особенная. Кем нужно быть, чтобы этого не понимать?..
…Теперь у него в запасе, впервые за много лет, было невесть сколько бесконечных часов, чтобы все это передумать. «Все время на свете», как это смешно говорится на английском. В крыивке был радиоприемник, и порой можно было поймать американское радио, но ему удавалось разобрать лишь отдельные знакомые слова, а английского учебника, по которому начал учить язык в эту зиму, при себе не было, аналогии же из немецкого, на которые он легкомысленно надеялся, ничем не помогали. Однажды он проснулся, облитый потом, как из ведра, со счастливой догадкой, что услышанное по радиоприемнику «слотер» — то же самое, что по-немецки «schlachten»: наверное, выкрикнул спросонья это слово, потому что в темноте заскрипела пружинами раскладушка и на него вблизи горячо дохнуло чем-то родным, будто бы домом, хлебом, парным молоком, и он ощутил под руками два теплых холмика, пару голубей-турманов, из тех, что он разводил в детстве на плебании, и сжал их крепче, чтобы не улетели, — «Ну что такое, ну ша, ша» — укоризненно забормотали турманы, высвобождаясь из его рук, и он понял, как про «slaughter» и «schlachten»: Рахель! — и хотел извиниться, чтоб не думала о нем плохо, объяснить ей, как переходят гласные из языка в язык, переодевшись в белое, ползут по снегу, но он их все равно сумел демаскировать, — она решительно возразила: «Спать, спать», — и принялась делать что-то с его подушкой и одеялом, но что именно, он уже не понимал, потому что, подчинившись ее приказу, сразу же и заснул — как под воду ушел… Но таких филологических находок ему больше не выпадало — мешал невозможно клейкий английский выговор, и самостоятельно, без помощи учебника, он не мог сквозь него продраться.
Наверное, думал он в минуты просветления (когда боль умолкала и скручивалась где-то в груди темным узелком, только так давая понять, что готова нападать и дальше), наверное, он попросту отвык от абстрактного умственного труда — такого, что не нацелен сразу на прямой практический результат. Почему-то от этой мысли становилось грустно, и это его тоже беспокоило — то, что телесная слабость и вынужденное бездействие ума, выбив его из заведенного рабочего режима, нежданно высвободили в нем целую подводную систему чувств, с которыми он не знал что делать; плескался в них рывками, словно неумелый пловец. Даже назвать их и то не умел, в конце концов, с цифрами ему всегда было легче иметь дело, чем со словами. (Весь свой первый год в лесу он добросовестно таскал в рюкзаке задачник Кренца, потом все же вынужден был оставить его в крыивке, а жаль, именно теперь бы пригодился, когда вот тут вылеживается, — чтоб мозги не отлынивали и не лезло в голову бог знает что…) Кроме него в госпитальном бункере было еще трое раненых, которых по разным причинам не удавалось разместить по селам, одного парня принесли уже при нем — у него на ноге началась гангрена, и когда ногу размотали, крыивку надолго заполнила тошнотворная сладковатая вонь — не помогала ни работающая, и очень неплохая, насколько мог оценить Адриан, вентиляция, ни ночное проветривание. Как-то Адриан уловил подобный, прело-сладковато-болотный душок и от Рахели — и был неприятно удивлен: медсестра им всем нравилась, аж любо было смотреть, как ловко она возле них хозяйничает, лавируя между топчанами, заполняя тесное помещение своей через край бьющей пышной жизненностью, готовит еду, приносит из леса какие-то душистые травы, что-то кипятит на примусе, разливает в баночки, режет материю на бинты — все без минутки отдыха, славная девонька, и неприятно было связывать ее с этим гнилым духом, — но потом он заметил, как она, ухватив клубок белых бинтов, скрылась за занавеской, где стояла ее раскладушка, и вдруг понял, отчего этот дух, и почувствовал, как лицо его заливает горячая краска стыда, как у мальчишки, пойманного за подглядыванием в девчачий туалет… Он старался про этот эпизод забыть, как и про ту ночь, когда спросонок схватил ее за грудь, — просто убрать из памяти, как привык это делать со всем, что мешало сконцентрироваться на деле. Незадача, однако, была в том, что дело осталось где-то там, наверху, за пределами госпитального бункера, и он тут без него тарахтел и чихал вхолостую, как мотор без топлива.