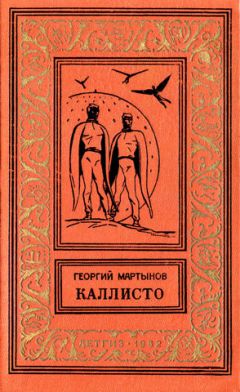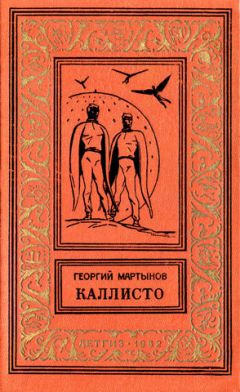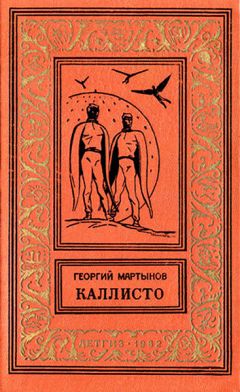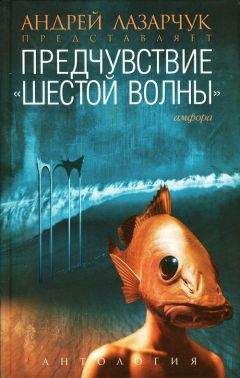Олег Игнатьев - Путешествие на «Каллисто»
Неподалеку теннисный корт и лужайка для игры в гольф. Конечно, и подстриженные лужайки, и игрушечный светофор, и даже теннисный корт призваны как-то смягчить чувство ностальгии, неизбежно появляющейся у «зимовщика». Помочь создать иллюзию близости далекой родной земли.
На одной из маленьких лужаек сложен очаг, где новозеландцы жарят иногда мясо. Недалеко от лужайки, впритык к обрыву, средних размеров полянка, отведенная нам для строительства базы.
Уже совсем стемнело, когда поставили последнюю палатку. Палатки сооружали мужчины, каллистянки же занимались приготовлением ужина.
Так прошли первые часы на острове Рауль.
11 января
Режим работы на берегу члены экспедиции утвердили для себя довольно жесткий. Подъем в 6 часов. В 6.30 завтрак. 7.00 — выход группы из лагеря. На сегодня запланировали пройти (с остановками для проведения программы исследований) по гребню кратера до высшей точки острова — пика Маомаокай. Роль проводника взял на себя новозеландец Ян Кьюрифи, поджарый, среднего роста, мужчина лет тридцати, с коротко подстриженной белокурой бородкой и слегка вьющимися волосами. Одет он был просто и скромно: старые шорты и грубые ботинки, очень удобные при лазании по раульским кручам. Через плечо у Яна перекинута небольшая полевая сумка, а сбоку болтается на ремешке охотничий нож. По профессии Кьюрифи инженер, а на Рауле выполняет обязанности заведующего фермой (на ферме несколько коров, десятка два овец и две пары свиней).
На первый взгляд может показаться странным: инженер и вдруг сменил свою профессию на роль свинопаса. Объяснение оказалось довольно простым. За год пребывания на Рауле каждому рядовому «зимовщику» платят около семи тысяч долларов, которые по возвращении в Новую Зеландию не подвергаются обложению налогами. Кьюрифи завербовался, решив собрать деньги, нужные ему для организации одной экспедиции. Какой — не рассказал. Можно лишь предположить, что интересной, если судить по прежним его путешествиям. Ян прошел пешком через Индию, Непал и Пакистан, два года работал в Антарктиде. Там с двумя товарищами три месяца путешествовал на собачьих упряжках по континенту.
Вообще большинство из девяти сотрудников станции на Рауле подписали контракт из-за материальных соображений. Один паренек зарабатывал деньги на свадьбу, второй мечтал приобрести машину, третьему нужна была определенная сумма для учебы в университете. Кроме Яна Макгрегора, начальника метеостанции, остальные восемь были еще людьми холостыми.
Высшая точка острова — Маомаокай — возвышается над уровнем океана приблизительно на 574 метра. Отправляясь в путь, мы прикинули и решили, что преодолеть такой подъем не представит для нас значительной трудности. До Маомаокай около десяти километров, и наше восхождение, будучи постепенным, превратится в легкую прогулку. К сожалению, таковой не получилось. Тропинка то круто лезла вверх, то снова опускалась на пару сотен метров, потому что гребень кратера рассекался глубокими ущельями и тропинка пунктуально придерживалась конфигурации верхней части хребта, опоясывавшего кратер. Порой деревья и кустарники расступались, и тогда открывался изумительный вид на два озера — Синее и Зеленое.
На третий час перехода, после бесконечных подъемов и спусков, мои спутники стали все чаще вспоминать, что, как нам рассказывали, где-то на дороге на одном из перевалов сооружена цементная яма, в которую стекает дождевая вода. Яма закрыта крышкой, и вода вполне пригодна для питья. Я забыл сказать, что хотя вышли мы все одновременно, но потом наша информационная группа вырвалась вперед. На этот раз, кроме Бабаева и меня, в группу входил матрос Сергей Козлов, которому поручили нести рюкзак с запасной десятикилограммовой кинокамерой.
Остальные каллистяне шли не торопясь, по пути беря пробы почв, делая разрезы, словом, употребляя не научную терминологию, рвали травку и копали ямы. С полдороги Ян решил вернуться, посмотреть, не сбились ли ученые с тропки, хотя двигаться по ней удобно, так как через каждые двадцать — тридцать метров метка: на стволе очередного дерева прикреплен красный пластмассовый квадратик. И так пробираешься по лесу от метки к метке.
Нестерпимо хочется пить. И вот мы выходим прямо к столь желанной кринице. Сергей Козлов снимает с пояса флягу, становится на колени, поднимает крышку, заглядывает внутрь и вдруг, не набрав воду, быстро вскакивает на ноги. Я даже подумал, уж не змея ли забралась в водоем, хотя прекрасно знал, что на Рауле, как, впрочем, и на других островах Океании, ядовитые змеи не водятся.
Оказалось, что не только нас привлекла пресная вода. Резервуар облюбовали крысы, превратив его в маленький бассейн. Одна из них, по словам Козлова, утонула. Проверять достоверность его показаний я не стал.
Несколько ранее на одном из промежуточных пиков, откуда открывался с левой стороны вид на Зеленое озеро, а с правой — на спокойный в тот день Тихий океан, мы заметили небольшую, полуразвалившуюся избушку, около которой, под кроной развесистого дерева, виднелась наблюдательная вышка, тоже полуразрушенная, почерневшая от времени.
— Здесь,— пояснил Ян, — во время второй мировой войны находился наблюдательный пост новозеландской армии, откуда следили за японскими и немецкими военными судами, самолетами и подводными лодками, которые, как мне рассказывали, сюда иногда наведывались.
Военные действия, к счастью, не затронули этого района, но было приятно отметить про себя, что три с лишним десятилетия назад, на этом затерянном клочке земли, находились люди, готовые сражаться против общего с нами врага — фашизма и японского милитаризма. И вот много лет спустя новозеландцы, работающие на Рауле, помогают нашим ученым в другом гуманном деле — изучить способы охраны окружающей среды, чтобы сберечь для человечества, для науки такие уникальные уголки, как остров Рауль.
Завершив после очередного спуска в котловину очередной подъем, Сережа Козлов посмотрел на часы и сказал:
— Сейчас полдень.
— Очень хорошо, — отозвался я. — Значит, мы вернемся на базу засветло.
— Сейчас полдень, значит, время обеда, — пояснил Сергей.
Что ж, порядок есть порядок. Для моряка корабельный распорядок действует и на суше.
Примостившись на упавшем стволе дерева, мы открыли банку консервов, разрезали полбуханки хлеба на толстые куски, и скоро от выданного нам сухого пайка ничего не осталось, даже крошек не нужно было подбирать. Сергей завернул пустую банку в газету и положил в рюкзак.
Часам к двум добрались до вершины Маомаокай. Вдали, на синем-пресинем океане виднелось белое, красивое судно — «Каллисто». Сверху оно казалось очень маленьким и очень симпатичным. У Виктора осталось еще немного пленки, и он «добил» ее, исчерпав суточную норму.
Трава на вершине выросла какая-то необычная для этих мест: мягкая, ласковая, совсем как дома. И что удивительно, в небольшом углублении бил родничок. На самой высокой точке острова!
Мы лежали на траве и смотрели на проплывающие вверху пушистые облака.
— Да, — заметил Сергей, — а наши друзья-ученые немного отстали. Правда, они по дороге работали, а мы только шли. Наверное, доберутся до Маомаокай часика через два.
Представьте себе, только он произнес последнее слово, как над обрывом возникла рука, схватилась за куст, и вот уже на площадку взбирается не кто иной, как профессор Воронов. Энергичный, как всегда в прекрасном расположении духа.
— А, вы уже здесь! — воскликнул Анатолий Георгиевич, расстегивая лямки и сбрасывая на траву тяжелый рюкзак. — Прогулочка была хорошая, воздух здесь очень чистый, надеюсь, что и оставшийся переход будет такой же интересный.
Не успели мы оглянуться, как на площадку вышли остальные товарищи вместе с замыкавшим группу Яном Кьюрифи.
Анатолий Георгиевич Воронов назвал переход до вершины Маомаокай прогулочкой, но во время этой прогулочки ученые выполнили почти всю намеченную на сегодняшний день программу.
Вторая половина пути проходила с несравненно меньшими трудностями. Мы просто спустились к дороге, которая вела прямо к лагерю.
Думая о будущей корреспонденции, я старался использовать любую возможность, чтобы пополнить свои более чем скудные познания в вулканологии, орнитологии, ботанике и других уважаемых науках. Так как с нашей группой шел Ян Кьюрифи, а других сведущих людей рядом не было, то именно к нему были обращены мои вопросы. Ян, по своей натуре человек немногословный, отвечал довольно однообразно. На вопрос, как называется кустарник, заросли которого встречались повсюду, Ян, пожав плечами, ответил:
— Пахутакава.
— А как, — спросил я, — называются те стелющиеся деревья?
— Пахутакава, — произнес Кьюрифи.
— А деревья метров в пять в обхвате, вон те, которые стоят на искривленных воздушных корнях?