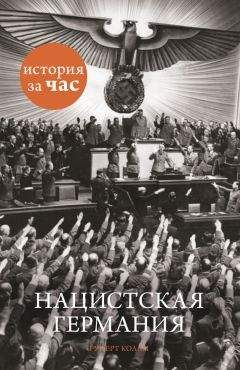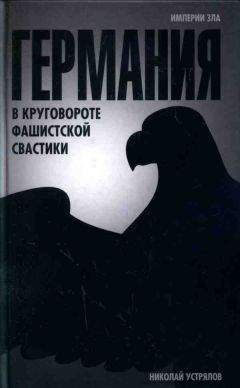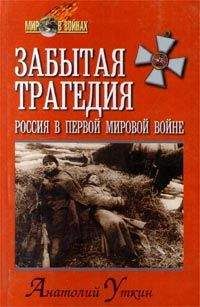Оливер Сакс - Зримые голоса
Далее Выготский говорит о «диалектическом препятствии» между ощущением и мыслью, препятствии, которое требует для своего преодоления «обобщенного отражения реальности, каковое и является сущностью значения слова»[45].
Таким образом, для Массье первыми из тьмы выплыли имена собственные, существительные и именные сказуемые. Требовалось добавить качественные прилагательные, но тут возникли проблемы.
Массье не стал ждать добавления прилагательных, но пользовался именами объектов, в которых он находил важные качества, которыми хотел наделить какой-то другой предмет. Так, желая выразить быстроту одного из своих товарищей, он говорил: «Альбер – птица», для того, чтобы выразить силу, говорил: «Поль – лев», для того, чтобы выразить нежность, говорил: «Делион – ягненок».
Сикар вначале допускал и даже поощрял такую практику, а потом «очень неохотно» стал заменять существительные прилагательными («нежный» вместо «ягненка», «милый» вместо «голубь»), добавляя: «Я утешал его в потере блага, каковое я у него отнял… объясняя ему, что слова, которые я добавляю, равносильны тем, от которых он теперь должен избавиться»[46].
С местоимениями возникли иные, особые проблемы. «Он» Массье долго принимал за имя собственное. Путал местоимения «я» и «ты» (эта путаница часто возникает у младенцев). Но в конце концов Массье разобрался и с местоимениями. Трудно было Массье понять и что такое предложение, но наконец он усвоил и это, научившись, как сказал бы Хьюлингс-Джексон, «пропозиционировать». Труднее всего было с невидимыми геометрическими конструкциями. Массье легко складывал вместе квадратные предметы, но абсолютно новым его достижением стало понимание квадратности как геометрической конструкции, как идеи квадрата[47]. Это достижение вызвало подлинный восторг Сикара: «Достигнута абстракция! Это следующий шаг! Массье понимает абстракции! – восклицает Сикар. – Он – настоящий человек!»
Через несколько месяцев после того, как я видел Джозефа, мне случилось перечитать историю Каспара Хаузера (с подзаголовком: «Рассказ о человеке, просидевшем в темном подвале отрезанным от сообщения с внешним миром с раннего детства до семнадцатилетнего возраста»)[48]. Несмотря на то что положение Каспара было куда более странным и ужасным, он чем-то напомнил мне Джозефа. Каспар, юноша шестнадцати лет, был обнаружен прохожими в 1828 году, когда он, спотыкаясь, бродил по улицам Нюрнберга. При мальчике было письмо с рассказом о его странной истории: о том, что мать, оставшись без гроша после смерти мужа, отдала ребенка в семью поденщика, у которого было десять детей. По непонятным причинам отчим посадил мальчика в подвал и заковал в цепь. Ребенок не мог стоять – он только сидел. Более двенадцати лет Каспар не общался ни с одним человеком. Когда его надо было помыть или переодеть, ему подсыпали в еду опиум, а когда ребенок терял сознание, делали то, что было необходимо. Когда он «появился на свет» (Каспар часто употреблял это выражение для того, чтобы обозначить «свое первое появление в Нюрнберге и первое пробуждение к осознанию умственной жизни»), то скоро понял, что на свете есть «люди и другие существа», и поразительно быстро – в течение нескольких месяцев – начал усваивать язык. Это пробуждение к человеческим контактам, это пробуждение к миру общих смыслов и языка привело к внезапному яркому пробуждению ума и души. Это было расширением и расцветом ментальных способностей – все на свете вызывало у него любопытство, удивление и радость, он проявлял безграничную любознательность, горячий интерес ко всему, это был его «любовный роман с миром». (Такое возрождение, психологическое рождение, как назвал это Леонард Шенгольд, есть не что иное, как особая, преувеличенная, почти взрывоподобная форма того, что обычно происходит на третьем году жизни, когда ребенок открывает для себя язык и начинает им овладевать.) Каспар с самого начала продемонстрировал изумительную способность к восприятию и запоминанию, но воспринимал и запоминал он лишь частности – был блистателен в мелочах, но не мог мыслить абстрактно. Однако, усвоив язык, он обрел и способность к обобщениям и тут же перешел от мира бесчисленных, не связанных между собой частностей к единому, понятному и разумному миру.
Этот внезапный взрыв речи и интеллекта, по существу, напоминает то, что случилось с Массье, то, что происходит с разумом и душой, когда они долгое время пребывают в неволе (но полностью не разрушаются), а потом двери темницы перед ними внезапно распахиваются[49].
* * *Случаи, подобные случаю Массье, должны были чаще всего встречаться в XVIII веке, когда не было обязательного обучения, но такие случаи тем не менее происходят даже в наши дни, особенно в изолированных сельских местностях. Случается такое и тогда, когда ребенку ставят ошибочный диагноз и направляют в интернат для умственно отсталых детей в очень раннем возрасте[50].
В самом деле, в ноябре 1987 года я получил исключительно интересное письмо от Сьюзен Шаллер, переводчицы на язык жестов и ученого из Сан-Франциско.
В этом письме она рассказывала о мужчине двадцати семи лет, который родился глухим и никогда не владел ни одним языком, включая язык жестов. Этот ее ученик практически не общался с людьми на протяжении двадцати семи лет (если не считать конкретного функционального общения посредством мимики), однако сумел сохранить себя как личность, несмотря на длительную внутреннюю изоляцию.
Ильдефонсо родился на ферме в Южной Мексике. Он и его страдавший врожденной глухотой брат были единственными глухими в семье и в деревне. Они никогда не ходили в школу и не знали языка жестов. Ильдефонсо нанимался сезонным сельскохозяйственным рабочим в США, куда ездил со своими родственниками. Несмотря на свою доброту, он был очень одинок, так как практически ни с кем не общался или при необходимости ограничивался несколькими жестами. Когда его впервые посмотрела Шаллер, она заметила, что он обладает живым и острым умом, но постоянно чего-то боится и смущается, ищет сочувствия, – что-то подобное я видел у Джозефа. Так же как Джозеф, Ильдефонсо был очень наблюдательным («он внимательно следит за всеми и за всем»), но это было, так сказать, наблюдение со стороны, язык очаровывал его, но постичь его внутреннюю суть и логику Ильдефонсо не мог. Когда Шаллер жестами спросила его «Как тебя зовут?», он в ответ просто повторил жест. Это было все, что он мог делать на первых порах, не понимая, собственно, что такое знак, что такое жест.
Повторение жестов и звуков, пока Шаллер пыталась научить Ильдефонсо языку жестов, продолжалось без всякого результата: пациент никак не мог понять внутреннюю сущность, значение. Была немалая вероятность того, что обучение окажется бесплодным, что у Ильдефонсо навсегда останется мимическая эхолалия, что он никогда не научится мыслить и владеть языком. Но потом неожиданно у него все получилось. Первый прорыв случился с числами. Он вдруг понял, что такое числа, и научился работать с ними, он понял их смысл, после чего последовал интеллектуальный взрыв: Ильдефонсо понял главные принципы арифметики. Пока это еще не было понятие о языке (арифметическая символика не является языком, не несет в себе значений как слова). Однако усвоение чисел, понятий операций с ними привело в движение ум Ильдефонсо, создало островок порядка в океане хаоса и внушило ему ощущение возможности осмысления и надежду[51].
Настоящий успех пришел к Ильдефонсо на шестой день после сотен и тысяч повторений слов, в частности, жеста, соответствующего слову «кот». Внезапно жест превратился из бездумно копируемого движения в жест, чреватый значением, жест, который можно использовать для символизации концепции. Это был волнующий момент, понимание привело к интеллектуальному взрыву, не чисто абстрактному (как в случае с правилами арифметики), а взрыву понимания сути и смысла мира.
«Лицо его вытянулось от удивления… сначала медленно, а потом все с большей жадностью он всасывал в себя названия всего, что видел вокруг себя – двери, доски объявлений, стульев, столов, часов, студентов, классной доски и меня… Он вступил в человеческую вселенную, открыл для себя единство разума. Теперь он знает, что и у него, и у кота, и у стола есть названия».
Шаллер сравнивает «кота» Ильдефонсо с «водой» Хелен Келлер – первое слово, первый жест, ведущий к остальным, освобождает плененный прежде ум и интеллект.
Этот момент и следующие недели стали для Ильдефонсо временем обращения к миру с абсолютно новым, всепоглощающим вниманием. Это было пробуждение, погружение в мир мышления и языка после десятилетий примитивного чувственного существования. Действительно, позже Шаллер писала мне о пятидесятичетырехлетнем пациенте с врожденной глухотой, который не владел языком, но зато владел арифметическими действиями. У него был потрепанный учебник арифметики, в котором он не мог читать текст, но зато легко решал примеры. Этот человек, вдвое старше Ильдефонсо, смог на шестом десятке освоить язык жестов. Шаллер задает вопрос: не помогло ли ему в этом владение принципами и символами арифметики?