Лев Бобров - По следам сенсаций
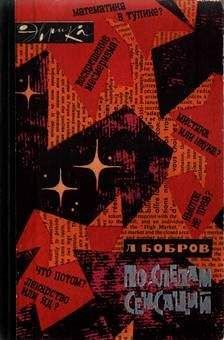
Обзор книги Лев Бобров - По следам сенсаций
Лев Викторович Бобров
По следам сенсаций
Эликсир молодости?
— Пейте снеговую воду! Она лечит болезни, она восстанавливает силы увядшего организма!
Представьте, одна чересчур полная женщина (девяносто килограммов!) за каких-нибудь три месяца легко сбросила целый пуд веса. Заметьте: пищевой рацион при этом оставался прежним. Вот что значит снеговая вода! К тому же она предупреждает сердечно-сосудистые заболевания…
— Ну, что касается лечения недугов, то здесь ещё можно спорить о влиянии снеговой воды.
О лечении же старости говорить бессмысленно: это не болезнь, а естественное состояние организма. И химия тут поможет лишь постольку, поскольку она способна избавить от обычных недугов…
— Как же так? А чудодейственный препарат НРВ? Это же настоящий эликсир молодости! Семидесятишестилетний врач, принимая НРВ внутрь, помолодел на двадцать пять лет. Впрочем, только ли НРВ? А мумиё? До сих пор не раскрыта тайна этого целительного бальзама!
— Всё это несерьёзно. В изобретении способов омолодиться не было недостатка за последнее столетие. Однако эти идеи оказались пустоцветом.
Учёные спорят. Журналисты муссируют сенсации. Читатели тем временем экспериментируют над собой.
Неужели сбывается мечта средневековых алхимиков о таинственном чудо-эликсире?
«…Войдя в комнату, они увидели на стене великолепный портрет своего хозяина во всём блеске его дивной молодости и красоты. А на полу лежал мёртвый человек во фраке. Лицо у него было морщинистое, увядшее, отталкивающее, и только по пальцам на руках слуги узнали, кто это…»
Это был Дориан Грей. Человек, который десятилетиями не поддавался разрушительному действию времени, сохраняя юношескую гибкость тела и бодрость духа. Вместо самого Дориана Грея старился его портрет. А потом… Потом стряслось нечто ужасное: портрет возвратил старческий облик человеку в момент его смерти.
Сказка… Захватывающая, проникновенная, талантливая, но, какой бы она ни была, выдумка остаётся выдумкой. И всё же, как сказал поэт, «сказка — ложь, да в ней намёк…».
Но прежде чем докапываться до смысла намёка, читателю предлагается проделать эксперимент. Положите кусочек столярного клея в воду. Он будет растворяться иначе, чем сахар в стакане чаю или соль в миске супа. Те тают, постепенно уменьшаясь в размерах, пока не исчезнут совсем, а этот наоборот — набухает… Оставьте в покое чай или минеральную воду — они простоят хоть сто лет без изменения. Иное дело клей. Жидкий поначалу, он быстро теряет текучесть, становится всё более вязким, как кисель, наконец, превращается в студень. Процесс застудневания химики называют старением коллоидных систем. (Между прочим, «коллоид» — значит «клееобразный». Клееподобных тел вокруг нас мириады: скажем, хлеб и картофель, мясо и яйца, масло и сыр — тоже коллоиды.)
Но метаморфозы кусочка клея ещё не закончились. Со временем студень начинает терять воду. Настанет день, когда, потеряв вместе с водой чуть ли не девять десятых своего веса, он превратится в твёрдый сухой стекловидный комок. По той же причине черствеет хлеб, а на сыре появляются «слезинки».
Так вот: лаки и краски — тоже коллоидные системы. Независимо от того, что служит растворителем: вода, клей или масло. Правда, высыханию масляных красок в отличие от акварельных или гуашевых сопутствует чисто химический процесс — окисление на воздухе. Тем не менее всё равно перед нами старение в физико-химическом смысле слова. Именно оно приводит к появлению трещин на старинных картинах. Так что без особой натяжки можно утверждать, что портреты действительно способны стариться. Ну, а сами оригиналы, изображённые на этих портретах?
Студни бывают не только мёртвые. Растительные и животные ткани — тоже студни. В морях обитают живые студни — медузы. И примитивный одноклеточный организм, и шедевр инженерного искусства природы — думающий мозг — все они содержат студнеобразные системы.
Мы выпиваем в сутки около трёх литров воды. Белки кишечных стенок вбирают в себя воду и передают белкам крови, а та уже поставляет её всем тканям тела. Здесь опять, как и в случае с клеем, мы встречаемся с набуханием. Оно играет важную роль в процессах жизнедеятельности (вспомните припухлость от пчелиного укуса или от ожога крапивой. Это самое настоящее набухание). А вот к старости ткани нашего тела удерживают воду всё хуже и хуже. Морщины — первый признак того, что тело утрачивает упругость, начинает усыхать. Но если морщины — результат необратимых изменений, протекающих в студнеобразной белковой системе, то не в физической ли химии следует искать ключи к вечной молодости и красоте?
Как бы там ни было, хотел того Оскар Уайльд или нет, а и «Портрете Дориана Грея» химику наверняка почудится неявный полунамёк на физико-химическое сходство в старении живых и неживых коллоидов. Впрочем, для читателя, привыкшего не просто «глотать духовную пищу», а размышлять над текстом, в понести Уайльда найдётся немало иных поводов для новых ассоциаций, аналогий, раздумий.
Увиденная сквозь магический кристалл причудливой фантазии писателя, ещё выпуклее, ещё зримее предстаёт перед нами извечная драма природы — борьба между силами разрушения и созидания, дисциплины и анархии, жизни и смерти — старение организма. Эта борьба идёт внутри нас с момента рождения. «Жизнь есть смерть», — гласит известный парадокс, и это недалеко от истины. Не успев появиться на свет, любое существо уже несёт в себе зародыш гибели. Более того, многие учёные убеждены, что процессы старения быстрее всего идут не на склоне лет, а именно в детстве и зародышевой стадии. И законы диалектики неумолимы: наша жизнь даже в пору расцвета не что иное, как медленное, едва заметное, но верное и неотвратимое угасание. Пробьёт час — и бесстрастное зеркало посмотрит на нас потускневшими глазами, окаймлёнными сетью морщин и блёстками седины, — мол, здорово же ты изменился, дружище! Старость…
Увы, не радость — это знали ещё задолго до Оскара Уайльда. Неспроста, видать, древние миротворцы наделяли своих любимых героев вечной молодостью и красотой, а всё «отрицательные персонажи» выглядели почему-то старыми и уродливыми.
Горько оплакивал безвозвратно умершую молодость итальянский математик и врач эпохи Возрождения Джироламо Кардано: «Наступление старости заставляет каждого человека жалеть о том, что он не умер в детстве». Этому пессимистическому настрою созвучна знаменитая сентенция немецкого реформатора Мартина Лютера: «Старость — живая могила». А в 1905 году, в эпоху великих открытий и надежд молодого XX века, мир услышал слова, от которых повеяло жестокими сумерками инквизиции.
Один из самых выдающихся медиков того времени, американец В. Ослер, заявил, что старики становятся в тягость себе и другим, мешают техническому, культурному и социальному прогрессу. Ссылаясь на то, что острота ума ухудшается с возрастом, Ослер делал вывод: у пожилых людей юридическая ответственность ниже, чем у молодых. По мнению Ослера, семьдесят процентов созидательной работы люди выполняют, как правило, до сорока пяти лет и ещё двадцать процентов до пятидесяти. Примеры? Вот они. Альберт Эйнштейн, Нильс Бор, Поль Дирак сделали свои наиболее выдающиеся открытия в двадцать шесть — двадцать семь лет. В двадцать восемь Карл Линней опубликовал «Систему природы». Джемсу Уатту не было тридцати, когда он изобрёл паровую машину. К эволюционной идее происхождения видов Чарлз Дарвин пришёл в — тридцатилетнем возрасте (в завершённом виде свою работу учёный выпустил, правда, лишь через два десятилетия). Николай Лобачевский сделал доклад о созданной им неевклидовой геометрии в тридцать четыре года. Дмитрию Менделееву, когда он сообщил об открытии периодического закона, исполнилось тридцать пять лет. Исаак Ньютон заложил фундамент новой физики задолго до сорока. Редко кто, даже среди гениев, создал что-либо сопоставимое с главным достижением жизни после сорока-пятидесяти лет…
И Ослер выступил с идеей евтанасии — «гуманного» умерщвления стариков. Дескать, всех, кто дожил до шестидесяти лет, следует — надо же додуматься до такого! — усыплять навсегда хлороформом…
Даже А. Вейсман, теоретически обосновавший необходимость и полезность смерти, не «поднялся» до столь значительных социальных выводов.
Бессмертие живого существа возможно, считал Вейсман. Но естественный отбор предпочёл смертных, ибо старые мешают молодым. «Отсюда следует, — писал он в «Очерках по наследственности и смежным проблемам биологии», — с одной стороны, необходимость размножения, а с другой — полезность смерти. Особи, даже частью утратившие свою жизнеспособность, не только бесполезны, но вредны для вида, так как они занимают место, которое могло бы принадлежать более жизнеспособным. Поэтому естественный отбор, по-видимому, должен был сократить жизнь нашей гипотетически бессмертной особи как раз на тот срок, в течение которого она бесполезна для вида. Иными словами, он должен был сократить продолжительность жизни особи до тех пределов, которые обеспечили бы наиболее благоприятные условия для одновременного существования максимального количества жизнеспособных особей.




