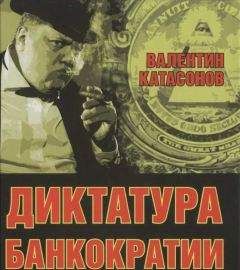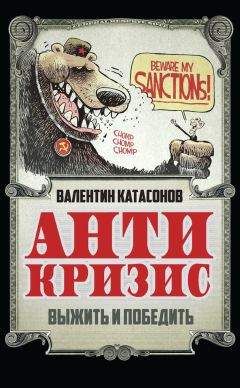Инна Соболева - Победить Наполеона. Отечественная война 1812 года
Четвёртым военным в окружении Наполеона оказался Эмманюэль Огюст Дьедонне Мариус Жозеф маркиз де Лас-Каз. Он, как и Монтолон, принадлежал к древнему аристократическому роду, который, как гласит предание, вел своё начало от доблестного рыцаря, отличившегося в конце XI века в войне с маврами. Многие поколения Лас-Казов по традиции, заложенной их отважным предком, посвящали жизнь военной службе. Эмманюэлю тоже прочили карьеру военного, он окончил Вандомскую военную школу, затем поступил в Парижскую, ту самую, куда четыре года спустя поступит и Наполеон. Но в юности они не встретились. Зато молодой морской офицер познакомился на острове Мартиника с будущей императрицей Франции, которая помогла бывшему эмигранту занять подобающее ему положение при дворе. Наполеон оценил незаурядный ум Лас-Каза, доверял ему, не раз давал деликатные дипломатические поручения. С воцарением Бурбонов Лас-Каз оказался не у дел и уехал в Англию, но, узнав о бегстве Наполеона с Эльбы, немедленно возвратился в Париж. После Ватерлоо, оставшись верным отрекшемуся императору, Лас-Каз просит у Наполеона разрешения сопровождать его в изгнание: «Если вы согласитесь выполнить мою просьбу, мое самое горячее желание будет удовлетворено». Преданный муж и отец, Лас-Каз, тем не менее, получив согласие Наполеона, ни минуты не раздумывает: оставляет семью, берёт с собой только старшего сына. Сколь долгой будет разлука, предположить не может никто… В Рошфоре вместе с другими приближёнными Наполеона Лас-Каз ведет переговоры, увы, безнадёжные, пытаясь получить разрешение на отъезд в Америку.
Уже на пути в изгнание Лас-Каз становится одним из самых доверенных лиц Наполеона. Оно и понятно: он – единственный, с кем можно беседовать о литературе, об истории, о философии. Других достойных собеседников у Наполеона не будет уже никогда… Ещё на борту английского фрегата Лас-Каз начинает вести записки, названные им впоследствии «Мемориал Святой Елены».
Впервые книга вышла в свет спустя два года после смерти императора. Сказать, что она имела успех, – значит не сказать ничего. Она ошеломила. У одних перевернула представление о мире. У других вызвала такой приступ тоски о былом величии Франции, что жизнь показалась тусклой и бессмысленной. Многие утверждали: это – результат усталости общества от бесконечных войн. Может быть. Но книга Лас-Каза открыла людям, погружённым в отрешённое безразличие, что у них отняли надежду. Для человека мыслящего это означает крах. Последовала череда самоубийств, вроде бы немотивированных. Но отсутствовали только привычные мотивы: несчастная любовь, разорение. Подлинные мотивы были куда глубже (правда, в наш меркантильный век не всякому дано их понять): жизнь потеряла ту притягательную силу, те необъятные возможности, которые были во времена Наполеона. Так кому она нужна, такая жизнь?..
Книгу Лас-Каза неоднократно переиздавали и переиздают до сих пор. Генрих Гейне ещё в 1826 году назвал «Мемориал» одним из «евангелий» Наполеона (другие, по его мнению, – воспоминания врачей покойного императора О’Миры и Антоммарки). Когда будут опубликованы книги Бертрана, Монтолона, Гурго, преданные приверженцы Наполеона включат и их в число «евангелий» своего кумира. А через сто тридцать лет после его смерти выйдет ещё одна книга, которая не только займёт законное место в «Библии» императора французов, но и решительно изменит взгляд на причину смерти Наполеона, более того, поможет почти наверняка назвать имя убийцы. Это книга преданного слуги Наполеона Луи Жозефа Нарцисса Маршана «Наполеон. Годы изгнания». Но о ней я расскажу чуть дальше.
А в начале 20-х годов XIX века кто мог представить, что негодование, которое в начале эпохи Реставрации вызывало одно лишь упоминание о Наполеоне, сменится едва ли не обожествлением его имени? Если кто-то и мог, то лишь один человек: он сам. Неслучайно он говорил: «Мое будущее наступит тогда, когда меня не будет. Клевета может вредить мне только при жизни». Наверное, он и правда был способен провидеть будущее.
Его одинокая смерть на скалистом острове посреди безбрежного океана произвела на людей, имеющих сердце, впечатление ошеломляющее. Она пробудила воспоминания, как ни странно, не о миллионах убитых и искалеченных в сражениях, которые он вёл; не о тяготах рекрутских наборов, не о военных поражениях и неподъёмных налогах, а о блеске былых побед и величии Первой империи. Люди (не только французы) благословляли память завоевателя. Они как-то разом увидели, поняли: деспотия королей хуже самовластия Бонапарта, ведь они – заурядны, а он – гений.
Пройдёт ещё три четверти века, и юная московская барышня, которой вроде бы не за что любить Наполеона, из-за него ведь сгорел её родной город, напишет:
Длинные кудри склонила к земле,
Словно вдова молчаливо.
Вспомнилось – там, на гранитной скале,
Тоже плакучая ива.
Бедная ива казалась сестрой
Царскому пленнику в клетке,
И улыбался пленённый герой,
Гладя пушистые ветки.
День Аустерлица – обман, волшебство,
Легкая пена прилива…
«Помните, там, на могиле
Его Тоже плакучая ива.
С раннего детства я – сплю и не сплю —
Вижу гранитные глыбы».
«Любите? Знаете?» – «Знаю! Люблю!»
«С Ним в заточенье пошли бы?»
«За Императора – сердце и кровь,
Все – за святые знамена!»
Так началась роковая любовь
Именем Наполеона.
Имя автора – Марина Цветаева…
На острове Святой Елены он говорил (его предвидение дословно записали и Лас-Каз и О’Мира): «Через двадцать лет, когда я уже умру и буду лежать в могиле, вы увидите во Франции новую революцию».
Как и в большинстве своих предвидений, он оказался прав: две революции ждали его страну в ближайшие годы. Во время первой из них Анри Бейль, участник наполеоновских войн, в том числе и похода в Россию, живший в 1830 году на улице Ришелье в Париже, записывал свои впечатления от увиденного и услышанного на полях потрепанной книги. Это был «Мемориал Святой Елены» Лас-Каза, с которым писатель никогда не расставался. Его он сделал и любимой книгой Жюльена Сореля [44] .
А вот Пьер-Жан Беранже, в отличие от Стендаля, в разное время по-разному относился к императору, но в дни июльской революции он прямо говорит о Наполеоне не только как о пророке, но и как о предтече и некоем символе новой революции.
То знамя путь далекий совершило:
К скале святой Елены в океан, —
И перед ним раскрылась там могила,
И встал ему навстречу великан.
Свое чело торжественно склоняя,
«Я ждал тебя!» – сказал Наполеон,
И, в небеса навеки исчезая,
Меч в океан, ломая, бросил он.
Какой завет оставил миру гений,
Когда свой меч пред знаменем сломал?
Тот меч грозой был прежних поколений;
Он эту мощь Свободе завещал.
Так, уже вскоре после гибели Наполеон становится героем не только солдатских рассказов, не только мемуаров своих соратников и врагов, но и стихов, хороших и разных, притом написанных не только по-французски.
А «Мемориал Святой Елены» отличается от воспоминаний других авторов «наполеоновских евангелий» не тем, что Лас-Каз скрупулёзно записывал всё, что говорил император, и описывал то, что он делал, – именно так поступали все спутники Наполеона. Но им хотелось особенно подчеркнуть, а то и преувеличить своё участие в жизни великого человека. За Лас-Казом такого греха не числится. Он хорошо понимает: его место – быть секретарём, бытописателем, не более. Это делает книгу предельно достоверной. Но главное достоинство «Мемориала» в том, что в нём зафиксированы суждения Наполеона по вопросам, которые с другими своими спутниками он просто не обсуждал. В самом деле, стоит ли говорить с генералом Гурго об «Илиаде» или с генералом Бертраном о театре? А с Лас-Казом – можно. Так что он оставлял Бертрану описание битв, размышления о стратегии и тактике, а другое (особенно то, что касается внутренней жизни, ошибок и разочарований) доверял Лас-Казу.
Я процитирую лишь несколько высказываний Наполеона, приведённых Лас-Казом и в «Мемориале», и в «Максимах и мыслях узника Святой Елены». Все они добавят новые краски к портрету императора французов.
«Самое верное средство остаться бедным – быть честным человеком».
«Пускаясь во всякого рода преувеличения, меня восхваляли, как и прочих монархов, коим дано было свершить нечто необыкновенное; но то, в чём истинная моя заслуга, известно лишь мне одному».
«Монархи Европы создали собственные армии по образцу моей, но надобно же ещё уметь командовать ими».
«С того времени, как я стал во главе государства, я советовался только с самим собой, и это меня вполне устраивало; совершать ошибки я начал только тогда, когда стал прислушиваться к тому, что говорят советники».
Иногда создаётся впечатление, будто он оправдывается. Не перед Лас-Казом, конечно, да и вообще не перед современниками – перед потомками: «Я убил чудовище анархии, прояснил хаос. Я обуздал революцию, облагородил нацию и утвердил силу верховной власти. Я возбудил соревнование, награждал все роды заслуг и отодвинул пределы славы. Всё это чего-нибудь стоит! На каком пункте станут нападать на меня, которого не мог бы защитить историк? Станут ли бранить мои намерения? Он объяснит их. Мой деспотизм? Историк докажет, что он был необходим по обстоятельствам. Скажут ли, что я стеснял свободу? Он докажет, что вольность, анархия, великие беспорядки стучались к нам в дверь. Обвинят ли меня в страсти к войне? Он докажет, что всегда на меня нападали. Или в стремлении к всемирной монархии? Он покажет, что оно произошло от стечения неожиданных обстоятельств, что сами враги мои привели меня к нему. Наконец, обвинят ли мое честолюбие? А! Историк найдет во мне много честолюбия, но самого великого, самого высокого! Я хотел утвердить царство ума и дать простор всем человеческим способностям. И тут историк должен будет пожалеть, что такое честолюбие осталось неудовлетворённым!.. Вот, в немногих словах, вся моя история!»