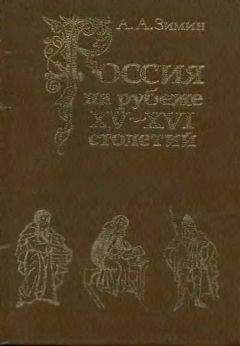Александр Пятигорский - Размышляя о политике
Разумеется, схизмогенетическая сторона коллапса открывает широкий простор для самых разнообразных политических, социологических и психиатрических гипотез и спекуляций, не говоря уже об обилии поэтических метафор. Все это порождает методологический хаос. Сейчас будет необходима хотя бы пробная, гипотетическая редукция этологии коллапса в целом. Если говорить о данной конкретной политической системе, то коллапс может быть редуцирован к радикальному изменению в соотношении спонтанности и направленности в поведении, языке и мышлении субъектов политической рефлексии. При этом нами решительно отвергается общераспространенная точка зрения, что в коллапсе социальное самосознание субъекта сводится к нулю. Последнее можно рассматривать только как крайний случай коллапса, как его, так сказать, «этологический предел», за которым становится невозможным говорить о политической системе, да и о политической рефлексии тоже. Однако даже в этом предельном случае коллапса не исключается возможность того, что на каком-то ином (но принадлежащем той же политической системе) уровне рефлексии — этот уровень мы можем условно назвать стратегическим — такого рода крайний случай был уже как бы «запланирован» и только ждал своей реализации в политической действительности. Но и тогда возможно распространение коллапса на все уровни политической рефлексии, что полностью прекращает самокорректировку системы и тем самым резко уменьшает ее шансы на выживание.
Обратимся к четырем историческим событиям, в которых коллапс оказался не только отмеченным и зафиксированным, но и решающим в критических ситуациях различных политических систем.
Первый пример — якобинская диктатура 1793-1794 годов, великолепно демонстрирующая аккорд всех трех негативных состояний. Замечательно, что робеспьеровский террор был ошибкой как с точки зрения еще «молодой» политической системы третьего сословия, так и с точки зрения самой революционной программы монтаньяров. Фальсифицированной оказалась только революция как способ развития общей политической системы капитализма, но никак не система капитализма в целом. Коллапс 1793 года, фактически аннулировавший социальную структуру, в феноменально короткий срок привел к забвению не только дореволюционной истории, но и недолгой истории самой революции. Не будем забывать, коллапс живет в синхронности политической рефлексии. Поэтому когда схизмогенез охватил и верхи революционной политической системы, то последняя уничтожила себя руками термидорианцев. Но это — слишком простой пример.
Вторым примером, гораздо более сложным и менее четко отмеченным, служит начало Первой мировой войны. Здесь мы имеем дело, во-первых, с серией принципиальных стратегических ошибок — таких, скажем, как планируемая Германией война на два фронта или ошибка России, буквально вынужденной к военному союзу с Англией. Можно также говорить о частичной фальсификации политических систем России и Германии. Но главным и основным в данном примере является затянувшийся почти на целый год коллапс постепенно формировавшейся нереволюционной, либеральной политической системы социал- демократии. Или, скажем так, коллапс системы реформистской политической рефлексии средних классов. Схизмогенез, наблюдаемый летом и осенью 1914 года, уже ipso facto исключал возможность фальсификации социал- демократической системы политической рефлексии. Здесь особенно интересным является то, что все безумие первого года войны явилось прямым следствием, если не продолжением этого коллапса.
Третий пример — русская революция. Три предвоенных года были для российской политической системы годами ускоренной аккумуляции ошибок, которые однако не смогли (как и катастрофические военные ошибки первых двух лет войны) фальсифицировать эту систему. Ибо центральной нефальсифицируемой политической аксиомой оставалась «классическая» русская идея единства государства и общества, практически разделяемая даже крайними революционерами-террористами, не говоря уже о Плеханове, Ленине и Троцком. Мы думаем, что канун Первой мировой войны был временем феноменального незнания политически мыслящими людьми процессов, протекающих в российском обществе на всех уровнях последнего. Немногие знающие были полностью изолированными внутри политической системы. Российское общество оказалось, с одной стороны, крайне неразвитым, не изжившим своих элементарных форм, а с другой — не способным к осознанию своей собственной неразвитости в политической рефлексии. К Февральской революции российская политическая система пришла уже на девять десятых коллапсированной. Схизмогенез стал необратимым уже в августе 1917 года. Замечательно, что этот коллапс оказался самым долговременным в документированной политической истории (1917-1987). Ему уступает даже древнеримский коллапс (14-68 годы н. э.). Во времени этот коллапс совпадает с советским государственным тоталитаризмом, которому он и обязан крайним своим долголетием. В порядке внутренней хронологии советского государственного тоталитаризма этот коллапс четко делится на шесть фаз: 1917-1927, 1927-1934, 1934-1939, 1939-1953, 19531964,1965-1986.
Четвертый пример. Нацизм в Германии является как бы «усеченным» по составу негативных состояний случаем кризиса политической рефлексии. Кратковременная Веймарская республика не создала сколько-нибудь стойкой политической системы, а поражение в Первой мировой войне и ноябрьская революция оставили в неприкосновенности основные социальные структуры довоенной Германии. Веймарская система не успела накопить своих собственных ошибок, кроме тех, которые ей достались от старой социал-демократии. Не будет преувеличением сказать, что прогрессирующее незнание было в значительной степени прямым следствием политического вакуума 20х годов. Незнание, которое к 1934 году перешло в коллапс уже другой системы политической рефлексии. Этот коллапс в своей «эпистемологической чистоте» был едва ли не уникальным в европейской истории. Первая фаза нацистского коллапса (совпадающая с третьей фазой советского), между «ночью длинных ножей» 1934 года и «хрустальной ночью» 1938го, характеризуется резким нарастанием схизмогенеза. Во второй фазе (1938-1943) схизмогенез канализируется в военную истерику и практически парализует все внутрисистемные коммуникации. В этой связи интересно заметить, что обманчивость аналогий между советским и нацистским коллапсами имеет своей причиной то, что эти коллапсы протекали в различные времена. Первый — словно знал о своем долголетии, тогда как во втором всегда чувствовалось крайнее напряжение цейтнота.
Мы столь подробно остановились на негативных эпистемологических состояниях политической рефлексии, потому что эти состояния являются существенной стороной политики, рассматриваемой как система, и существенной составляющей политики, рассматриваемой диахронно как процесс.
Теперь постскриптум к нашему послесловию-предисловию: о четырех основных понятиях политической философии как об эпистемологических категориях.
Первое. Политическая рефлексия как феномен является очень сильным, если не рискованным эпистемологическим допущением. Другим допущением будет допущение о ее отсутствии или прекращении (в случае нулевой политической рефлексии).
Второе. Политическая система — одна из возможных абстракций политической рефлексии. Допущение существования политической системы как феномена есть не более чем гипотеза.
Третье. Понятие социальной структуры фигурирует здесь только как дополнительное к понятию политической системы.
Четвертое. Этология вводится нами только в порядке конкретизации психологических состояний субъектов политической рефлексии.
Глава 1. Политическая философия, политическая рефлексия и сознание
Проблема проблематизации / историзм и история
В предисловии мы довольно пространно объяснили, что предметом политической философии является исследование политического мышления отдельных людей и групп людей. Точнее говоря, предметом политической философии является сумма частных политических рефлексий. Теперь — о субъекте, как одном из основных концептов предмета политической философии. Здесь субъектность — это не черта политической рефлексии, а та, пока единственная возможная форма, в которой эта рефлексия находит место своего выражения, единственный возможный образ ее манифестации как феномена. Однако политическая рефлексия дана нам только в своем фрагментированном состоянии. Действительность не знает никакой одной или единой политической рефлексии. Нам всегда приходится иметь дело с ее отдельными индивидуальными фрагментами, существующими более или менее автономно, потому что каждый из них оказывается по необходимости приписанным к данному субъекту политической рефлексии. И наконец, само понятие субъекта политики, как субъекта политической рефлексии, является по необходимости же неопределенным в отношении содержания этой рефлексии. Так одна и та же рефлексия может совершаться разными людьми, а один и тот же человек может явиться субъектом разных рефлексий. Именно такого рода неопределенностью обуславливается фрагментарность субъекта политической рефлексии. В силу этого обстоятельства нам пришлось ввести волю как основной психологический фактор, минимализирующий фрагментарность субъекта политической рефлексии и в то же время устанавливающий и «физические» рамки его существования, отделяющие его от существования другого субъекта. Воля становится одним из тех концептов, к которому может быть феноменологически редуцировано понятие субъекта.