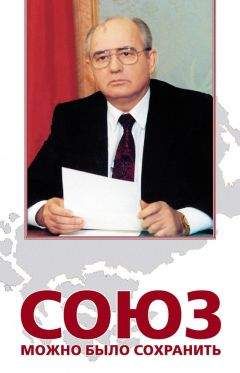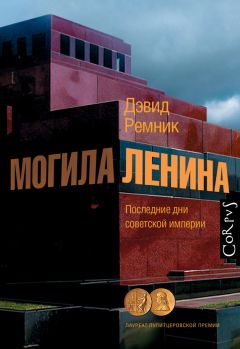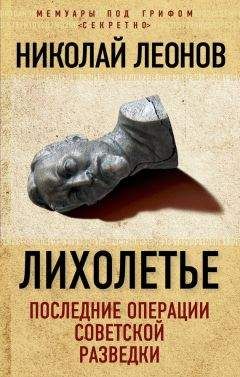Рой Медведев - Советский Союз. Последние годы жизни. Конец советской империи
Апрельская трагедия в Тбилиси умножила обвинения против армии. Бурный взрыв эмоций вызвало выступление А.Д. Сахарова на Первом съезде народных депутатов СССР, когда он без всякой проверки, ссылаясь на публикацию какой-то канадской газеты, заявил о том, что в Афганистане были якобы случаи, когда по приказу командования с вертолетов расстреливали оказавшихся в окружении группы советских солдат – чтобы помешать попаданию этих солдат в плен. Это была несомненная провокация. Академик А. Сахаров был очень часто резок и несдержан в своих заявлениях, и кто-то подсунул ему перевод из канадской газеты, которых он сам никогда не читал. Резкие антиармейские высказывания допускал с трибуны съезда и Анатолий Собчак. Их можно было слышать, хотя и не с трибуны съезда, от Эдуарда Шеварднадзе, который занимал тогда пост министра иностранных дел СССР и был членом Политбюро. Антагонистические отношения между МИДом и высшим генералитетом не были тогда секретом для нас, народных депутатов.
С самого начала 1990 г. положение дел ухудшилось и в связи с резким уменьшением военного производства. При сокращении численности армии в еще большей степени сокращался и оборонный заказ. В Хорошевском районе Москвы, от которого я был избран в Верховный Совет СССР, остановился крупный танковый завод. Руководству завода было предложено переходить на какой-либо другой вид продукции. Мне показывали цеха завода и объясняли, что завод, который работал как танковый более 40 лет, перевести на выпуск какой-то гражданской продукции невозможно. «Мы можем открыть и наладить работу отдельного цеха по производству ширпотреба, – говорил мне директор. – Но все остальные цеха можно только законсервировать».
Еще в конце 1989 г. по всем странам Восточной и Центральной Европы прошли «бархатные» революции. Начал распадаться Варшавский Договор. Возникло мощное давление с Запада, направленное на ликвидацию ГДР и объединение Германии на условиях ФРГ и Запада. Горбачев был не в силах преодолеть это давление. Надо было уступать, и вопрос стоял лишь о цене этих уступок и об их границе. По мнению военных, включая и маршала Сергея Ахромеева, М. Горбачев и в том и в другом случае пошел слишком далеко. Советский Союз почти ничего не получил за свои уступки, и он отошел дальше, чем это было необходимо. Уже в 1990 г. некоторые из дивизий, выведенных из благоустроенных военных городков в Германии, Венгрии и Чехословакии, размещались в палаточных городках в Белоруссии и на Украине. Военные деятели были недовольны, и во влиятельных армейских кругах был слышен ропот.
О настроениях в высших кругах армии маршал С. Ахромеев писал через год очень сдержанно: «Нам, военным руководителям, было очень трудно. Мы несли всю полноту ответственности за оборону страны, каждый на своем участке. Приходилось сокращать и фактически разрушать то, что создавалось в течение нескольких десятилетий громадным трудом наших старших товарищей сразу после Великой Отечественной войны, а позже усилиями нашего поколения. Кроме того, было ясно, что сокращение будет для многих офицеров и их семей тяжелым жизненным испытанием, драмой, а для некоторых даже трагедией. Трудно себе представить, что переживает человек, посвятивший себя воинской службе, когда в расцвете сил вдруг получает предложение уйти из армии. Значит, нужно начинать жизнь по-новому, фактически сначала. Его семья оказывается в незавидном положении, нередко без крыши над головой. Все это ложится тяжелым грузом на душу и на плечи военного руководителя[116].
Являясь народным депутатом СССР от одного из избирательных округов в Молдавии, Сергей Ахромеев стал часто выступать в Верховном Совете СССР почти по всем вопросам, которые затрагивали интересы армии. Ему чаще всего оппонировали академик Георгий Арбатов, директор Института США и Канады, и молодой офицер-летчик Владимир Лопатин, народный депутат СССР от одного из избирательных округов в Вологодской области. И Арбатов, и Лопатин примыкали к МДГ. Это чаще всего был спор вокруг проблем, у которых на данное время не было никакого устраивавшего всех или просто разумного решения. «Армия для страны или страна для армии?» – задавал всем нам вопрос Георгий Арбатов. Он со знанием дела приводил примеры, которые свидетельствовали о далеко зашедшей милитаризации Советского Союза, которая подрывала возможности его мирной экономики. Поэтому Г. Арбатов требовал значительного сокращения на 1990 г. военного бюджета. «Наша страна в долгах, у нас тяжелое экономическое положение, и нам не хватает на самое необходимое, – говорил Г. Арбатов. – В таком положении мы должны начинать с элементарной вещи, известной каждой домохозяйке: жить по средствам, решительно отказаться от расточительства, от лишних расходов. Но и в государстве должен действовать тот же принцип. Под руководством таких «великих полководцев», как Брежнев, Устинов и Гречко, в Советском Союзе в мирное время была создана невероятная по размерам и стоимости военная машина. Чего мы этим добились? Мы сумели еще в 70-е гг. напугать весь мир и сплотить против себя такую коалицию всех ведущих держав, которой не имел, пожалуй, никто со времен Наполеона. У Советского Союза сейчас имеется 64 тысячи танков – больше, чем во всех странах мира, вместе взятых. Но мы в это же время обескровили, деформировали, подорвали свою экономику и финансы, сделав неизбежными снижение уровня жизни народа и обострение социальных проблем. В результате разрыв между нами и экономически развитыми странами начал увеличиваться»[117].
В том, что говорил Г. Арбатов, была, конечно же, большая доля истины. Политика паритета в военной сфере и гонка вооружений разоряли Советский Союз, отнюдь не разоряя более богатые западные страны. Но и Сергей Ахромеев отвечал Г. Арбатову вполне убедительно. Да, конечно, говорил он, внешняя политика Советского Союза и прямо связанная с ней военная политика, которые проводились в течение 20 лет до 1985 г., были далеко не безупречными. Но это была политика не Гречко или Устинова, это была политика всего Советского государства и всей КПСС, в разработке которой и вы, товарищ Арбатов, участвовали и как член ЦК КПСС, и как руководитель группы консультантов в Международном отделе ЦК КПСС. Да, мы создали очень мощную армию, которая способна была выполнять задачи, которые ставило перед нами руководство СССР. Теперь наступил другой период. Новая внешняя политика привела к уменьшению угрозы войны и снижению военной напряженности. Это позволяет снять с Вооруженных Сил ряд прежних задач. Но мы не можем быстро реформировать армию. У нас уже сейчас имеется более 170 тысяч бесквартирных офицеров. Мы не можем просто так уволить из Вооруженных Сил еще 500 тысяч офицеров, не позаботившись об их судьбе. Мы должны сокращать армию и флот, сохраняя высокое морально-политическое состояние личного состава, не внося раскол не только в общество, но и в Вооруженные Силы[118]. Любая домохозяйка, говорил С. Ахромеев в Верховном Совете, должна жить по средствам, отказываясь от лишних расходов, но она не может кормить одних своих детей и не кормить других своих детей.
От положения армии, от настроений в Вооруженных Силах также зависит стабильность в обществе. Вопрос о том, какие военные опасности существуют для Советского Союза и какими должны быть структура и численность Вооруженных сил СССР, а также какие задачи должна решать армия внутри страны, – эти вопросы не может решать сама армия.
Не только обсуждение всех этих проблем, но и реальная военная политика в стране заходила в тупик, и это было опасно. Во многих городах страны стали возникать союзы офицеров, в основном из числа недавно уволенных в запас. В качестве особой и независимой структуры возник Союз воинов-афганцев, в который входили участники афганской войны, главным образом из числа рядовых и младших командиров. Но с другой стороны, среди демократов и среди политиков, в том числе и очень высокого ранга, стали вестись разговоры о возможности военного переворота в СССР.
Чтение газетных и журнальных статей 1990 г., посвященных военной тематике и судьбе Советской Армии, оставляет тяжелое впечатление. Резкие и несправедливые обвинения, но также ноты отчаяния раздавались как с той, так и с другой стороны. В демократической печати разворачивалось то, что с полным на то основанием можно было бы определить не просто как антиармейскую пропаганду, но как «антиармейский психоз». На Вооруженные Силы многие публицисты и политики пытались свалить ответственность за все грехи прошлых лет и даже десятилетий, включая события в Венгрии в 1956 г. и в Чехословакии в 1968 г. С другой стороны, патриотическая печать не видела реальных трудностей страны и экономики. Все политические решения о сокращении армии и о новой военной доктрине Советского Союза, основанной не на принципах паритета, а на принципах «разумной достаточности», объявлялись результатом не просто давления Запада, но победой прозападных сил в советском руководстве или даже заговором ЦРУ. Александр Проханов призывал армию к забастовкам. Он утверждал, что только «бастующие авианесущие крейсеры и стратегические эскадрильи могут остановить травлю армии»[119]. До забастовок на флоте и в ВВС дело не дошло, но на Манежной площади в Москве прошло несколько манифестаций и митингов офицеров. О настроениях митингующих можно судить по их лозунгам: «Протестуем против одностороннего разоружения, конверсии, сокращения Советской Армии!», «Президент! Действуй же, перестройка буксует», «Защитите армию и Союз от ельцинского демократического отребья!», «Спасай Россию!», «Огонь по пятой колонне!» и т.п., но были среди митингующих и такие лозунги: «Ельцин + Горбачев – трагедия Союза. Их в отставку». В это же время приехавшие в Москву шахтеры из всех угольных регионов страны проводили возле гостиницы «Россия» свою манифестацию.
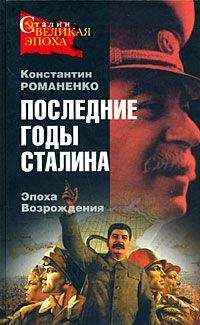
![Сергей Кремлев - Великий и оболганный Советский Союз [22 антимифа о Советской цивилизации]](/uploads/posts/books/183989/183989.jpg)