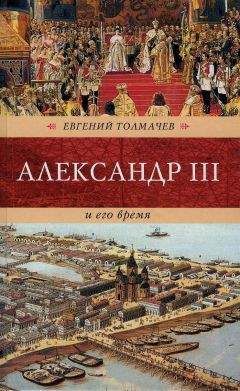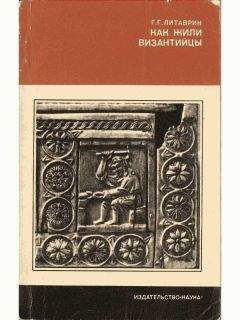Борис Кагарлицкий - Управляемая демократия: Россия, которую нам навязали
Они могут манипулировать курсом валют, ценами акций и банковскими ставками, в результате порождая финансовую нестабильность и экономический хаос»[225].
Можно заметить, что 18 лет глобального укрепления транснациональных институтов (примерно с 1980 по 1998 г.) дали примерно те же результаты, что и 18 лет брежневской стабильности в СССР. Элиты, сконцентрировав в своих руках грандиозные ресурсы, не просто понемногу теряли чувство реальности, но и начали позволять себе все более грубые ошибки, ибо немедленного «наказания» за эти ошибки не следовало. При столь огромной власти создается ложное ощущение, будто справиться можно практически с любой неприятностью, а потому нет необходимости беспокоиться из-за накапливающихся нерешенных проблем. Одновременно резко падает качество управления, снижается компетентность руководящих кадров, нарастает коррупция в системе. Чем больше корпорация, тем сильнее в ней развиваются внутренние групповые интересы, вступающие в конфликт друг с другом. Отказываясь реформировать себя, система не только затрачивает все больше средств на самоподдержание, но и действительно становится нереформируемой, создавая условия для собственного краха. Попытки реформ в подобной системе, разумеется, возможны и даже неизбежны, более того, они почти непременно будут инициированы сверху, но приведут они, как и советская перестройка, не к стабилизации, а к развалу.
Главным достижением неолиберальной глобализации принято считать повышение гибкости системы — прежде всего на уровне отдельных корпораций. Парадокс в том, что это же сделалось и главной проблемой. Чем более «гибкой» является бизнес-структура, тем более она склонна концентрироваться на краткосрочных задачах, жертвуя долгосрочными. Иными словами, повышение «гибкости» бизнеса на всех уровнях сопровождалось упадком стратегического планирования. Если бюрократический централизм имел свои серьезные недостатки, то система гибкого рыночного управления капитализмом — свои, возможно, не менее серьезные. Сочетание корпоративной централизации, разворачивавшейся в небывалых масштабах на мировом уровне, с внедрением «гибкого» подхода означало и соединение недостатков, органически присущих обоим типам структур. Итогом этого стала беспрецедентная самодестабилизация капиталистической системы. «Отдельные спекулянты, корпорации, брокерские конторы, пенсионные фонды и т. д. получают от системы огромную выгоду, но в то же время они не могут заботиться о ее воспроизводстве, даже если они в этом кровно заинтересованы, — писала Сьюзан Джордж. — Все участники рынка действуют рационально и на этом все построено. В финансовой сфере, однако, преобладают краткосрочные, мгновенные решения, а краткосрочная выгода противоречит долгосрочному интересу, реализация личных возможностей каждого оператора на рынке противоречит задаче поддержания его стабильности, без чего этим же операторам не выжить. В такой ситуации разве можно избежать опасного поворота событий или предотвратить глобальный крах?»[226]
Потрясения лета — осени 1998 г. заставили западные финансовые институты отчасти пересмотреть свои приоритеты. Лидеры Всемирного банка выступили с критикой Международного валютного фонда. После периода борьбы с инфляцией начался период снижения учетных ставок центральными банками, в обращение была вброшена дополнительная денежная масса. Правительство Японии совместно с оппозицией даже приняло решение о национализации одного из крупнейших банков — LTCB. В Гонконге правительство скупило акции ряда крупнейших компаний. В Малайзии был введен контроль над движением капиталов. Лозунг пересмотра итогов приватизации принес успех оппозиции на выборах в Словакии, причем выдвигали его не левые, а правый центр. Чили, некогда любимая страна либеральных экономистов, оказалась первой страной Латинской Америки, где были введены жесткие меры государственного контроля над рынком капиталов. Мероприятия, типичные для кейнсианской концепции регулирования, бессистемно и безответственно применялись теперь запаниковавшими монетаристами[227].
Правительство Евгения Примакова оказалось вполне на своем месте в мировом процессе. И его первоначальный успех, и его политическое поражение и вынужденный уход (когда острота кризиса миновала) — вполне закономерны. Его первые радикальные меры вполне вписывались в общемировую конъюнктуру. Но точно так же не являлись «аномалией» последующие медлительность и колебания «розового кабинета», в конечном счете приведшие его к краху.
Временная стабилизация, обеспеченная политикой Примакова, не решила ни одной структурной проблемы, точно так же как и отчаянные меры других правительств, предпринятые в это же время. Но, не сняв противоречий мировой экономики, эти краткосрочные мероприятия смягчили остроту кризиса и вернули правящим кругам уверенность в себе. Хотя кризис был всего лишь отложен (причем — ненадолго, о чем напоминали и падение курсов акций на Уолл-стрит в 2000—2001 гг., и нестабильность валютного рынка), возникло ощущение, что худшее позади.
С весны 1999 г. в мировой экономике снова начинается заметный рост, сопровождающийся ростом спроса на нефть. Вместе с ним растут и цены на сырье. А российская промышленность, возвращенная к жизни крахом рубля, наращивает производство. Чем лучше идут дела в стране, тем меньше правящие круги нуждаются в Примакове. Уже с декабря 1998 г., оправившись от паники, олигархи открыто взяли курс на дестабилизацию кабинета. Правительство ежедневно подвергается атакам купленных ими средств массовой информации. Политические противники Примакова получив щедрую финансовую поддержку, с каждым днем ведут себя агрессивнее.
В свою очередь «левое» большинство в Думе не проявляло никакого желания идти на конфликт с олигархией. Казалось бы, коммунисты должны были ратовать за национализацию. Но когда еще Сергей Кириенко в ходе недолгого своего премьерства завел речь о том, что государство должно забрать собственность Газпрома как самого злостного неплательщика налогов, именно представители КПРФ в Государственной думе подняли бурю возмущения. Законопроекты, позволяющие национализировать банки, «коммунистическое» большинство в Думе тоже потопило.
Национализация естественных монополий (Газпрома, нефтяных компаний и металлургии) обеспечила бы немедленный приток средств в бюджет. Если к этому добавить реальную, а не декларируемую государственную монополию на производство водки, проблема наполнения бюджета была бы решена без особого труда. Вместо этого болезнь стали загонять вглубь, не допуская ни массовых банкротств, ни широкой национализации.
ЭФФЕКТ ПРИМАКОВАПромышленный подъем, развернувшийся с поздней осени 1998 г., «The Moscow Times» метко назвала «экономическим бумиком»[228]. Товары российских производителей стали конкурентоспособны на мировом и внутреннем рынке. Угольная отрасль, считавшаяся бесперспективной, неожиданно сделалась прибыльной. Сталь, произведенная в России, заполонила мировой рынок настолько, что западные страны, ратующие за свободу торговли, начали в срочном порядке возводить протекционистские барьеры. Иностранные компании, ранее ввозившие потребительские товары в Россию, стали создавать на ее территории собственные производства, используя предельную дешевизну рабочей силы. Но главное, экономическое оздоровление в странах Восточной Азии привело к новому подъему мировых цен на нефть.
Кризис 1998 г. ударил главным образом по среднему слою. Поскольку практически во всех компаниях расходы на управление и маркетинг были завышены, именно за счет их сокращения предприятия пытались преодолеть свои трудности. Московские и петербургские «yuppies» оказались выброшены на улицу, потеряли сбережения в банках. Резко подорожали типичные для их потребления импортные товары. И все же наметившийся экономический рост позволил большинству из них снова встать на ноги. Появились новые рабочие места в растущих компаниях. Жить теперь приходилось скромнее, но в целом новые средние слои удержались на плаву.
Парадокс в том, что начавшийся экономический рост лишь усилил кризис системы. Обнаружилось, что экономическая структура, создававшаяся ельцинским режимом на протяжении предшествующих восьми лет, в принципе не приспособлена для роста. Увеличение промышленного производства привело к энергетическому кризису. Поскольку в течение длительного времени «нерентабельная» угольная отрасль систематически свертывалась, а все производители сырья переориентировались на экспорт, промышленность столкнулась с острым дефицитом ресурсов, особенно в энергетике. Летом 1999 г. разразился бензиновый кризис. Вскоре затем начались проблемы с электроэнергией. Анатолий Чубайс, возглавивший к тому времени РАО «Единая энергосистема России», заявил в сентябре, что положение «беспрецедентно тяжелое»[229].