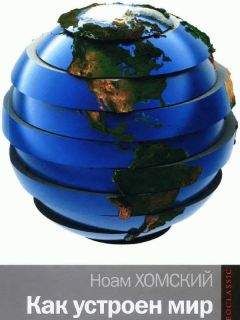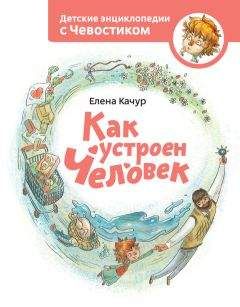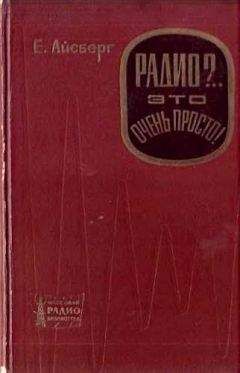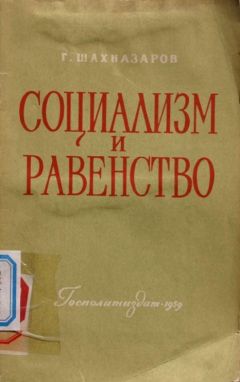Георгий Дерлугьян - Как устроен этот мир. Наброски на макросоциологические темы
Как нередко случается в ходе научных переворотов, старшие лидеры школы модернизации на эту критику так и не ответили. Защищенные званиями и положением в ведущих университетах, они просто отступили в свои кабинеты. Школа модернизации ушла со сцены молча. Большинство бывших теоретиков модернизации в дальнейшем занималось рутинной преподавательской и академической работой. В забвении умерли Талкотт Парсонс и Роберт Мертон. Кое-кому удалось уйти из резко к ним охладевшей научной среды в экспертный консалтинг и политику – подобно Збигневу Бжезинскому, который в бытность свою молодым преподавателем Колумбийского университета сделал себе имя как один из наиболее ортодоксальных теоретиков тоталитаризма (кстати, Бжезинский преподавал тогда совместно с молодым африканистом Валлерстайном очень популярный среди студентов курс по политической модернизации незападных стран). Неукротимый Сэмюэл Хантингтон двадцать лет спустя предпринял попытку реванша с опубликованием преднамеренно провокационного прогноза столкновения цивилизаций[75]. Однако американский истеблишмент в конъюнктуре 1990-х гг. переживал эйфорию в связи с чудесным избавлением от советской угрозы, неожиданными экономическими затруднениями дотоле неудержимой Японии и наступлением беспрецедентного подъема американских финансовых рынков. Тем более что Китай им еще казался просто развивающейся страной, наконец последовавшей американской вере в рынки, а исламский фундаментализм переживал временную фазу спада. Поэтому потребитель оказался более склонен к оптимизму Фукуямы[76] и футурологии глобализации, нежели к мрачным пророчествам Хантингтона.
Следующим закономерным шагом заката модернизационной парадигмы стало возвращение к классическим образцам и кардинальная переоценка прежде досконально описанных и изученных событий. Социолог из Гарварда Теда Скочпол публикует в 1979 г. монументальное сравнительно-историческое исследование великих социальных революций во Франции, России и Китае[77]. Эта монография сама оказалась настоящей революцией или, по меньшей мере, научным переворотом в объяснении подобных катаклизмов. Скочпол блестяще показала, насколько революционные вулканические извержения были обусловлены тектонической динамикой межгосударственных трений, вскрывавших разломы в обществе, через которые начинали извергаться потоки лавы. Классические революции начинались всеобщим панически нарастающим осознанием неадекватности старого режима и его позорного провала перед лицом внешних угроз. Одновременно возникали альтернативные политические элиты из образованных и при этом «лишних» средних слоев, страстно уверовавших в идеи прогресса и свое право на выведение страны из тупика. Кульминация непременно сопровождалась взрывом неорганизованного, зато устрашающе массового недовольства низов, которые переставали терпеть давние унижения, вдруг увидев, что прежнее начальство более не в состоянии им запретить. Этот взрыв сметал старый режим и расчищал место для нового революционного режима, которому, однако, еще предстояло удержаться в обстановке кровавого хаоса и попыток иностранной интервенции.
Успешным итогом во всех случаях было вовсе не наступление царства свободы. В этом все революции, по горькому выражению Троцкого, всегда оказывались «преданы» самими революционерами. Итогом всех победивших революций было значительное усиление государства: наполеоновская империя, советская военно-индустриальная сверхдержава либо восстановление единства и суверенитета Китая при «новом императоре» Мао, победа вьетнамских партизан над армиями самой Америки или превращение Кубы из сахарного придатка в мини-империю. Иначе говоря, в исторической ретроспективе социальные революции были мощными ответами проигравших стран на падение их мирового статуса. Поэтому революции нельзя понять вне мирового контекста.
Был раскрыт и теоретизирован двухфазовый механизм возникновения революции. На первом этапе происходит падение государственного престижа, как правило, в результате военного поражения или ставшего явным отставания от ведущих держав-конкурентов. Правящая элита непременно должна вначале расколоться на реформаторов и реакционеров, которые выдвигают противоположные проекты восстановления государственного престижа и мощи, соответственно, сталкиваются фракционные интересы в перекладывании друг на друга издержек поражения и цены выхода из кризиса (например, типичные конфликты между государственной бюрократией и частными помещиками либо между экспортно-ориентированным сектором и силами, выступающими за автаркические охранительные принципы). В возникающей политической чехарде у традиционно-безмолвных подчиненных групп и слоев (крестьянство, горожане, нацменьшинства, рабочий класс) появляется возможность проявить свой накопившийся протест.
В этом случае кризис может дойти до второй фазы – формирования революционных коалиций, состоящих из борющихся элитных фракций и их, на данный момент, массовых последователей. Конкретные исторические пути возникновения революционных ситуаций и их преодоления различными государствами, по всей видимости, могут определяться десятками факторов, складывающихся в уникальные комбинации и последовательности. В этом кроются корни непредсказуемости революций и их итогов. Мы имеем дело именно со взрывным процессом, мощной хаотической бифуркацией в истории, где трудно на основе прошлого опыта предсказать, что и с какой силой сдетонирует в обществе либо останется в пассивном состоянии. В революциях (как и на войне) необычно большую роль играют случайность, личные и сиюминутные факторы. Однако в ретроспективе итоги современных революций и войн все-таки выглядят более объяснимо – «структуры берут свое».
К примеру, в ходе Великой французской революции 1789–1793 гг. среди жертв гильотины оказалось непропорционально много буржуа, ради которых предположительно и затевалась революция. Может, прав консервативный французский мэтр Франсуа Фюре, отметавший революцию как исторический dérapage (занос), не имевший вовсе никакой логики, кроме бешенства в умах революционеров? В 1871 г. в рядах версальских карателей, как показали детальные архивные разыскания социолога Роджера Гулда, воевало не меньше пролетариев, чем среди защитников Парижской коммуны[78]. Личный выбор лагеря определялся, как выяснилось, едва ли не в первую голову тем, в каких кабачках-клубах, в каких кварталах и социальных сетях группировались в прошлой мирной жизни будущие бойцы баррикад и их противники.
Однако глубже уровня случайных событий, которые могут оказывать серьезное влияние на ход истории в периоды хаотических кризисов, когда приходят в расстройство или ослабляются структурные базовые параметры, все же залегают крайне медленно изменяющиеся структуры социальной жизни, ползущие с невидимой мощью и постепенностью ледника. Структуры нельзя непосредственно увидеть, но можно и необходимо выявлять косвенными методами теоретически направляемого исследования.
Среди наиболее влиятельных и элегантных образцов такого рода исследований – опубликованная в 1991 г. монография уже не раз упоминавшегося Джека Голдстоуна «Революции и восстания в мире раннего Нового времени»[79]. В основе модели Голдстоуна находятся процессы демографического роста, которые в доиндустриальной Европе (как и сегодня в Третьем мире) хронически опережали рост экономического благосостояния. По имени классического предтечи демографического анализа Томаса Мальтуса, эта неплохо разработанная в наши дни модель получила название мальтузианской ловушки. С притоком материальных ресурсов (как в Европе XVI–XVII вв., постепенно выкарабкивающейся из коллапса феодализма, эпидемий, религиозной резни и одновременно получающей приток ресурсов из недавно открытых Америк) налаживается жизнь и повышается рождаемость. Например, появляется возможность раньше обзаводиться семьями и не отсылать младших сыновей в армию и колонии, а дочерей – в монастырь. Однако через два-три поколения рост населения перекрывает экстенсивный приток ресурсов и начинают возникать всевозможные закупорки и трения. Традиционные взгляды на происхождение революций фокусировались на бедствиях простого народа и росте эксплуатации со стороны властей и господствующих классов. Голдстоун же ввел аналитическое различение проблем, возникающих у государственных организаций в периоды мальтузианских кризисов (прежде всего фискальных затруднений, когда налогов перестает хватать на текущие расходы, содержание бюрократии и войска и выплаты процентов по прошлым займам), и дилемм самих господствующих классов, которым становится все труднее воспроизводить свой предписанный социальными нормами элитарный уровень потребления. Иначе говоря, при всех бедствиях крестьянства и городской бедноты, дворянству, особенно мелкому, нередко тоже приходится сокращать свое потребление и отказываться от былых статусных практик и привилегий. Поскольку элиты, в отличие от бедноты, все-таки не голодают, то их дети более успешно выживают до взросления – и это только усугубляет дилеммы элитных семей. Как всех их одеть и снарядить такими дорогими конями, шпагами или саблями, как делить наследство, как давать приданное дочерям, как пристроить сыновей на хорошую службу? Вообразите юного гасконца д’Артаньяна.