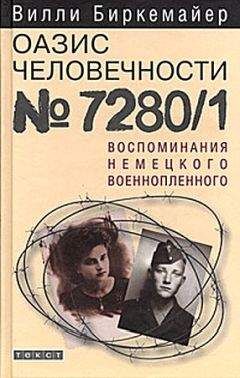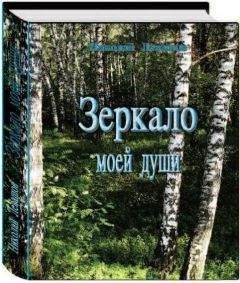Вилли Брандт - Воспоминания
После того как в декабре 1966 года я принял министерство иностранных дел, моя первая поездка за границу, которую я уже воспринимал как переход к европейскому «пригородному сообщению», привела меня в Париж, где в последний раз заседал Совет НАТО. На тогдашнюю дискуссию наложили отпечаток решения Франции, с которыми Федеративная Республика не могла согласиться. Первый вывод, подготовленный еще предыдущим федеральным правительством, гласил: «Мы заключили с Парижем соглашение о размещении французских войск в Германии». Договоренность далась нелегко. Мы исходили из того, что по вопросам обоюдной обороны существует единство мнений. Но независимо от того, соответствовало это действительности или нет, — неудовлетворенность не могла быть единственной отправной точкой нашей ориентации. Для того чтобы избавиться от груза прошлого и активизировать германо-французские отношения, нам следовало предпринять значительные усилия. В этом между Кизингером и мной существовало полное единство. Отношениям с Францией был нанесен урон, да и отношениям с Америкой это также не пошло на пользу. Скорее, наоборот. Для нас дальнейшим разочаровывающим и осложняющим обстоятельством явилось то, что Франция с лета 1965 года проводила в совете министров ЕЭС «политику пустующего кресла».
Де Голль и его сотрудники приняли к сведению, что в правительственном заявлении Большой коалиции были отчетливо расставлены германо-французские акценты. Кизингер, по согласованию со мной, сказал: «Европейская география и европейская история в современных условиях диктуют необходимость высшей меры согласия между двумя народами и странами. Сотрудничество, к которому мы стремимся, не направлено против какого-либо другого народа или другой страны. Оно, скорее, является точкой кристаллизации нашей политики, поставившей своей целью единение Европы. Та Европа, которая — как этого требуют американские государственные деятели — будет говорить „в один голос“, предполагает во все большем объеме постоянное согласование немецкой и французской политики. Германо-французское сотрудничество в возможно большем количестве областей имеет также большое значение для улучшения отношений с восточноевропейскими соседями… По этой причине федеральное правительство желает как можно конкретнее использовать содержащиеся в договоре от января 1963 года шансы на координацию политики».
Между тем мы не скрывали, что обе страны и в будущем будут выражать различные интересы и мнения. Дружба не означает отказ от собственных интересов или поддакивание партнеру. Так, мы пытались разъяснить нашему французскому соседу, почему мы придерживаемся иного мнения, чем они, по вопросам расширения ЕЭС. И почему мы придаем большее значение союзу с Америкой. Но, несмотря на это, уверены, что Европу можно строить только с участием Франции и Германии. Примирение между обоими народами стало послевоенной реальностью, возможно, важнейшей и, во всяком случае, самой отрадной.
В связи с недавним визитом Косыгина в Париж Кув де Мюрвиля занимало все то, что «русские называют европейской безопасностью», ибо в этом, по его мнению, заключались проблемы будущего Германии. Советская сторона, считал он, без возражений приняла к сведению, что Франция выступает за улучшение отношений между Бонном и Москвой, а также со странами Центральной и Восточной Европы. В действительности именно на Quai d’Orsay (т. е. в министерстве иностранных дел Франции. — Прим. ред.) хорошо знали, что в одиночку в политике разрядки ничего не добьешься. Я объяснил, каким образом мы намереваемся сформулировать вопросы германского единства и увязать их с нашей политикой обеспечения мира. Пока не найдено политическое решение, мы хотим сконцентрировать свои усилия на том, чтобы сохранить как можно больше связей между обеими частям германского народа — путем торговли, культурного обмена, упрощения поездок — и были бы рады рассчитывать при этом на понимание французов. Следует предпринять серьезную попытку вдохнуть в германо-французский договор больше политической жизни. Реакция Кув де Мюрвиля была положительной. Позднее он метко заметил, что я сильно отличался от Кизингера, «однако так же, как он, заботился о германо-французских отношениях».
Тогда, в декабре 1966 года, де Голль принял меня для беседы с глазу на глаз. Я объяснил, почему эта серьезная попытка придать работе в духе германо-французского договора новое содержание отвечает нашим интересам. Де Голль сказал, что он рад тому, что я стал министром иностранных дел. Он надеется также, что сможет плодотворно сотрудничать с новым федеральным канцлером. Он не питает никаких недобрых чувств по отношению к Людвигу Эрхарду, напротив, он ценит его. Сотрудничество с Эрхардом «всегда практиковалось по мере возможности». Наше правительственное заявление де Голль нашел интересным и даже ободряющим. Теперь следует подумать, что делать дальше. Франция не предпримет ничего, что могло бы затруднить наше положение. Но не следует преувеличивать значение договора. В первую очередь это документ доброй воли и примирения. Это всегда важно. Между намерениями обеих сторон не существует принципиального различия. Желание немцев воссоединиться известно Франции, и она не только не имеет против этого никаких возражений, а разделяет это желание, исходя из дружеских чувств к Германии, и потому, что только так можно окончательно преодолеть последствия войны. Однако в условиях «холодной войны» к этой цели можно приблизиться лишь в том случае, если не будет намерений вести войну против России, заявил де Голль. Но этого не хотел никто, «даже Германия, и Америка тоже». Следовательно, позиция силы никогда не могла быть настолько внушительной, чтобы, опираясь на нее, добиться германского единства. Необходимо искать другой путь. «Как вы знаете, Франция рекомендует путь европейской разрядки. Именно в германском вопросе не будет никаких подвижек, если отношения между европейскими государствами не будут поставлены на новую основу», — заявил президент. Разумеется, Франция должна проявлять осторожность. Россия, хотя это очень большая держава, не пошла дальше того, что ей по праву досталось в Ялте. Все говорит за то, что у нее нет агрессивных намерений. Главная забота России — это Китай. Кроме того, ей необходимо развивать собственную страну, а для этого нужна помощь Запада. Она в своем роде миролюбивая страна с сильным тоталитарным режимом, хотя и с ослабевающей идеологией. Франция (т. е. он сам, побывав в июне 1966 года в Советском Союзе. — В.Б.) заявила русским, что она приветствует политику германо-советской разрядки. Естественно, это предполагает, что Германия намерена проводить такую политику и что-то делает в этом направлении. Я спросил господина Косыгина: «Когда господин Брандт приедет в Москву — а Вы ведь поедете в Москву, — хорошо ли его примут русские?» Косыгин ответил: «Может быть, хорошо».
Де Голль продолжал: «Если Германия пожелает, Франция поможет ей продвинуться по новому пути (она даже начала кое-что в этом отношении предпринимать). Прежде всего в Москве и в области политики разрядки, в целом она воздержится от всего, что могло бы повредить Германии». Будучи в России, он также заявил, что не могут существовать вечно два немецких государства — есть только один немецкий народ. Возможно, в один прекрасный день это поймут и русские. Во всяком случае, признание ГДР как государства не входит в намерения Франции. Однако ее позиция в вопросе германских границ «на Востоке и на Юге» останется неизменной. Дружить она хочет только с неимпериалистической Германией. «Нельзя быть другом Германии, если она хочет вернуть себе то, что потеряла в результате войны». «У Германии, — сказал де Голль, — и не будет никакой возможности передвинуть границу на Восток, так как сегодняшнюю Россию не сравнить с тогдашней». С точки зрения Брежнева, это выглядело так: «Когда де Голль стал проводить самостоятельную внешнюю политику, наши отношения во всех областях удалось улучшить». Генерал повторил, что как только Федеративная Республика пожелает улучшить практические контакты с населением в советской зоне оккупации, Франция будет рассматривать подобные попытки как «полезные для всех, и особенно для самих немцев». Он продолжал: «Прежде всего дело в том, чтобы у каждого была своя политика. У Франции должна быть французская политика, и она у нас есть. У Германии должна быть германская политика, и ее создание зависит от самой Германии. Французская, или германская, или английская политика, которая была бы американской политикой, — это нехорошая политика». «При этом, — говорил он, — Франция ни в коей мере не выступает против Америки, она друг Америки. Однако для Европы нет ничего хуже, чем американская гегемония, при которой Европа угасает и которая мешает европейцам быть самими собой. Американская гегемония мешает европейцам верить в самих себя».