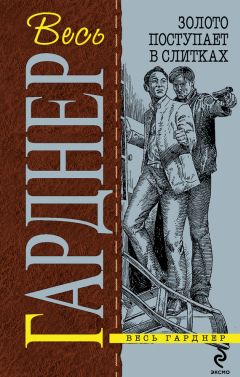Михаил Никонов-Смородин - Красная каторга: записки соловчанина
После последней раздачи кормов кроликам мы собираемся в нашу комнату. Солнце еще светит, а дальше будет белая ночь. Я лежу на своей постели, помещающейся у большего двухсветного, единственного окна комнаты и разговариваю с забредшим к нам Федосеичем.
Федосеич рассказывает про своих бутырских спутников — новороссийских инженеров.
— Инженеры, как инженеры. Русские, конечно. И ничем особенным от своих коллег не отличаются.
— Ты хочешь сказать, Федосеич — типичные инженеры.
— Ну, да. Обвинили их видите-ли вот в чем: при постройке различных сооружений в Новороссийском порту, они проектировали эти сооружения так, что их можно было использовать для других целей, например, поставить тяжелое орудие.
— Обвинение, как обвинение, — сказал я. — Чем оно хуже, например, обвинения бактериологов в культивировании ими у себя в лабораториях «бактерий для истребления рабочего класса»?
— Да, это верно. Но, вот новороссийским инженерам пришлось выступить перед особой комиссией, назначенной Сталиным для ревизии ГПУ на местах. Председатель этой самой комиссии Серго Орджоникидзе. Начал он ревизию как раз с Новороссийска. А, нужно сказать, инженеры уже полный подвальный курс прошли — через конвейер, всякие чудеса в решете видели и, конечно, уже чувствуют и поступают не как нормальные люди. Так вот, перед тем как предъявить инженеров комиссии, ГПУ отпустило их прямо из камеры домой — к женам и детям. Обезумели люди от счастья.
— А вы бы, Федосеич, не обезумели, — лукаво подмигивает Карп Алексеич, копающийся у печки.
— Не от чего, друг, вот что. У меня семьи нет. Я на свете один.
Федосеич продолжил рассказ о допросе побывавших дома инженеров в присутствии экспертов. Допрашивал сам Орджоникидзе.
— Правда ли, будто вы вредители? — спрашивает председатель.
— Правда, — отвечает каждый по одиночке и все вместе.
Орджоникндзе даже опешил. Ему спешит на выручку эксперт.
— Позвольте — вы говорите, что устраивали фундаменты для цистерн и бассейнов с целью использования их для артиллерии. Но разве вообще эти фундаменты по-другому устраиваются? Разве вообще всякое бетонное основание нельзя использовать для артиллерии?
Инженеры дружно стоят на своем вредительстве. Так и в Соловки с этим приехали.
Федосеич закуривает махорочную папиросу, вставленную в прокуренный, старый мундштук. Я начинаю ворчать на него за порчу воздуха.
— Ага, вот и еще курильщик мне в помощь, — обращается Федосеич ко входящему Константину Людвиговичу. В руках у него маточник с кроличьим гнездом.
— Подождите, — отмахивается тот и начинает вынимать из гнезда маленьких крольчат.
Федосеич некоторое время молча наблюдает, поглядывая на Константина Людвиговича, занятого кроликами.
— А что, господин полковник, если бы вашим солдатам показать вас за этаким занятием?
В глазах у Федосеича мелькают веселые огоньки.
— Посмотрите какой, — говорит Гзель, поднося барахтающагося малыша почти к самому носу Федосеича.
Федосеич отстранился:
— Дурачье лопоухое вырастает и больше ничего.
Ричард Августович пришел со своим приятелем капитаном Карлинским. Они усаживаются и пьют чай с пресным кроличьим пшеничным хлебом, выпекаемым, главным образом, для людей.
— Замечательный хлеб, — хвалит Карлинский.
— Не для спиритов, — шутит Федосеич.
— И не для сказателей веселых анекдотов, — парирует Карлинский.
Федосеич официально сидел за рассказы противосоветских анекдотов (десять лет концлагеря!), Карлинский вместе с группой спиритуалистов сидел за свой спиритуализм. Срок у него был шпанский — три года.
Мы дружно рассмеялись. Вошедший как раз в это время Перегуд остановился.
— Не стесняйтесь, отец Александр, проходите, — сказал Дрошинский.
— Будетгь вам, Ричард Августович, сказки рассказывать, — с неудовольствием заметил Перегуд.
— Что нового? — спросил я.
— Ничего особенного. Да мне не до новостей. Жену жду на свидание. Не знаю, где найти помещение для неё.
— В чумном отделении лисятника, — смеется из своего угла Дрошинский.
— Там места забронированы для социал-демократов, — сердито отзывается Перегуд, уходя прочь.
Два приятеляполяка продолжали свои споры за чашкой чая. Убеждения их диаметрально противоположны: Дрошинский безбожник, Карлинский — наоборот, и при том еще спиритуалист. Карлинский оперирует по преимуществу фактами из своего обширного спиритуалистического опыта. Дрошинский старается его высмеять. Изредка в их разговор вмешивается Федосеич.
— Вы совершенно зря не верите никаким рассказамъКарлинского, — замечает он. — Вот уже тот факт, что он сидит исключительно за свой спиритуализм, за вредительство властям спиритуалистическими средствами, говорит за признание спиритуализма даже людьми, верующими в диалектический материализм.
Дрошинский скептически улыбается.
— Весьма слабое доказательство. Здесь в лагерях не за преступления сидят. Был бы человек, а статья найдется.
— Не думаю, чтобы то была случайность, — возражает Федосеич. — А Чеховской на Соловках, Пальчинский и вообще, московские спиритуалисты — тоже случайность? Не слишком ли много случайностей? [21]
6. КАТОРЖНЫЙ СОЦИАЛИЗМ
Лагерная жизнь делала все более и более крутые повороты. Сначала сильно сократилась охрана, которая теперь несла, главным образом, караульную службу. Серое стадо заключенных вдруг получило производство в ранг «лагерников» и права рабочих социалистического отечества. Общие собрания рабочих, производственные совещания, тройки и всевозможные комиссии твердо вошли в лагерный обиход. Во главе всего стала незаметная ранее организация КВЧ (культурно-воспитательная часть). Выгонка пота из заключенных была поставлена этой почтенной организацией на должную высоту. Группу рабочих стали называть бригадой, а старшего рабочего бригадиром. В моду вошел бригадный способ работы. На сцену выплыло «социалистическое соревнование». Бригады заключали между собой договор (понуждаемые к тому КВЧ) о повышении урочной выработки. КВЧ, заключавшее эти договоры вело точный учет работы, содействуя выкачке из рабочих всех сил в порядке «соцсоревнования». В зависимости от результатов этого соревнования давались разрешения на свидание с приезжавшими в лагерь близкими, право на дополнительные письма (сверх разрешаемого одного письма в месяц), на премиальное денежное вознаграждение и прочие блага. Жизнь усложнялась. У заключенного, отягченного работой и «культ-нагрузкой» совершенно не оставалось времени для себя. Грамотные и имеющие образование, должны были учить неграмотных, участвовать в спектаклях, читать лекции. Все это считалось «культ-нагрузкой». Наконец, в руках КВЧ оказался еще один стимул к выкачиваяию пота — зачет рабочих дней. Каждые три месяца, проведенные заключенным в ударной работе, могли считаться КВЧ за четыре, пять и даже, в отдельных случаях, более.
В лагерной работе вводился общий для всего Союза порядок, но рабочий понуждался к работе из всех сил столь энергичными средствами, как голод и зачет рабочих дней. Создавалось вопиющее противоречивое неравенство в положении между рабочими и привилегированными людьми, — администрацией и специалистами. Специалисту, нужному в работе, предоставлялись всякие льготы, включительно до жизни в лагере с семьей. Рабочему — ничего. Усиленная работа быстро переводила его в разряд инвалидов, и рабочий выходил в тираж. Ценность рабочего равна нулю, ценность специалиста — огромна. Однако, не нужно думать, будто положение специалиста в этой системе прочно. Во всякое время и всякий специалист может очутиться на дне в роли рабочего.
Доведённую до апогея эту систему мне пришлось наблюдать на Беломоро-Балтийском канале и там же я узнал настоящий вкус хлеба социализма.
Производственные совещания были средством понуждать специалистов к более энергичной работе. На этих совещаниях специалисты и бригадиры делали доклады о своей работе и о плане предстоящих работ. С критикой должны были выступать бригадиры и рабочие. В конце концов дело шло опять таки о наиболее действительных способах выкачивания пота из рабочей массы, а в среде начальственной и полуначальственной сводилось к склоке и подсиживанию.
Шаблон социалистического строительства требовал проведения всякой работы кампаниями. Всякой работе предшествовала подготовка кампании, а затем и её проведение. Так, например, после гибели большей части крестьянского скота в колхозах — всесоветский фермер спохватился и решил большевицкими мерами возродить животноводство. Началась животноводческая кампания. Центральные и местные газеты заполнены специальными статьями по животноводству, написанному, конечно, не специалистами, а людьми партийными, твердо верящими в основное положение всякого коммунистического мероприятия: для коммуниста невозможного не существует. Читать большинство этих статей было бы забавно, если бы они помещались в сатирических журналах, а не в «Известиях» и «Правде». В статьях этих отыскивались новые корма для скота, рекламировалось кормление безлиственными ветками, мхом. Тут же можно было ознакомиться с химическим составом новых кормов, но о переваримости и физиологически полезной энергии ни слова [22]. Одно время эта газетная кампания, наконец, докатилась до вопросов вывода новых пород и форм сельскохозяйственных животных. Было написано по этим вопросам много несообразного, нелепого и, разумеется, не научного. Эти вопросы автоматически сделались предметами обсуждений производственных совещаний. На нашей командировке они стали муссироваться в примыкающей к зверосозхозу сельскохозяйственной ферме(сельхозе).