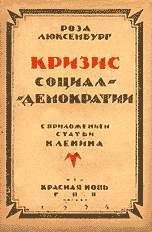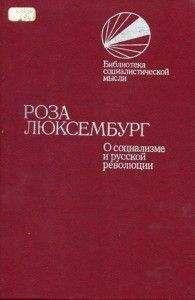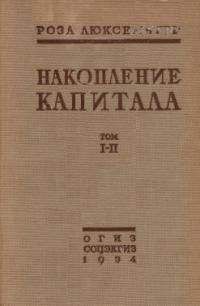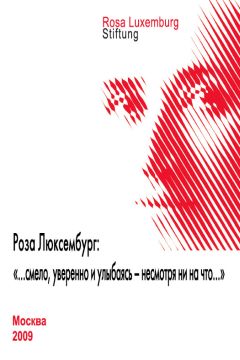Григорий Завалько - Понятие «революция» в философии и общественных науках. Проблемы. Идеи. Концепции.
Граф Жозеф Мари де Местр (1753-1821) в работе «Рассуждения о Франции» (1797), в отличие от Бёрка, подчеркивал объективную предопределенность хода Великой французской революции.
«Самое поразительное во французской Революции, – писал он, – увлекающая за собой ее мощь, которая устраняет все препятствия. Этот вихрь уносит как легкие соломинки все, чем человек мог от него заслониться: никто еще безнаказанно не мог преградить ему дорогу. Чистота помыслов могла высветить препятствие и только; и эта ревнивая сила неуклонно двигаясь к своей цели, равно низвергает Шаретта, Дюмурье и Друэ.
С полным основанием было отмечено, что французская Революция управляет людьми более, чем люди управляют ею. Это наблюдение очень справедливо, и хотя его можно отнести в большей или меньшей степени ко всем великим революциям, однако оно никогда не было более разительным, нежели теперь. И даже злодеи, которые кажутся вожаками революции, участвуют в ней в качестве простых орудий, и как только они проявляют стремление возобладать над ней, они подло низвергаются» [45].
Де Местр полагал, что в этом виден божественный умысел: революцией, как и всем остальным, управляет рука Провидения. В конце концов оно перестанет осуществлять свои неведомые людям планы с помощью «злодеев» и изберет более благородные орудия. Революция, должна завершится торжеством контрреволюции, которая будет «не противоположной революцией, но противоположностью Революции» [46].
После энергичных фраз де Местра, звучащих очень по-гегелевски, аналогичные высказывания самого Георга Вильгельма Фридриха Гегеля (1770-1831) в «Философии истории» (1822-1831, опубликована в 1837-1840) кажутся сухими и бесцветными. Но его мысль следует тем же путем, углубляя и систематизируя. Французская революция – не нелепая случайность, не произвол заговорщиков; она – необходимый элемент исторического процесса, направляемого Абсолютной Идеей. Гегель, в отличие от де Местра, даже осуждает старый режим, избежав тем самым трагикомического приписывания революции «сатанинского характера», но на этом его симпатии к революции иссякают.
Историческую неправоту Французской революции Гегель видит в том, что она проходила без реформации, без внутреннего преображения человеческого духа. Потому ее деятели руководствовались абстрактными понятиями, претворение которых в жизнь ведет к террору. Революция сыграла свою роль и закончилась, не сделав Францию и другие католические народы романского мира свободными: «Дело в том, что принцип, исходящий из того, что оковы могут быть сброшены с права и свободы без освобождения совести, что революция возможна без реформации, ошибочен. Таким образом все эти страны вернулись к своему прежнему состоянию» [47].
В чем же состояло значение Французской революции для всемирной истории? Не в божьей каре веку Просвещения, как считал де Местр, а в стимулировании буржуазных преобразований в Германии:
«Важнейшим моментом в Германии оказываются законы права, повод к изданию которых подал, конечно, французский гнет, так как благодаря ему был пролит свет на недостатки прежних учреждений» [48]. Далее следует обычная для позднего Гегеля апология прусских порядков, с особенным упором на торжество законности и подчинение церкви государству в результате своевременной реформации. Там, где реформация имела место, революция не нужна. Свобода осуществлена без нее. Революций в будущем, судя по всему, Гегель не видит.
К этому стоит добавить, что часто цитируемое [49] определение Французской революции как «великолепного восхода солнца», данное Гегелем, отнюдь не означает его восхищения революцией. В контексте оно имеет совсем иной смысл.
Вот что пишет Гегель:
«Мысли, понятию права, сразу было придано действительное значение, и ветхие подмостки, на которых держалась несправедливость, не смогли устоять. Итак, с мыслью о праве теперь была выработана конституция, и отныне все должно было основываться на ней. С тех пор, как солнце находится на небе и планеты обращаются вокруг него, не было видано, чтобы человек стал на голову, т. е. опирался на свои мысли и строил действительность соответственно им. Анаксагор первым сказал, что ум управляет миром, но лишь теперь человек признал, что мысль должна управлять духовной действительностью. Таким образом, это был великолепный восход солнца. Все мыслящие существа праздновали эту эпоху» [50].
Гегель приветствует восход солнца идеализма, а не восход солнца революции. Важным в революции для него является торжество идей; причиной поражения революции – абстрактность этих идей; выходом – торжество иных идей, более глубоко преобразующих действительность.
(Схожее по форме, но иное по содержанию высказывание имеется в «Феноменологии духа»: «Наше время есть время рождения и перехода к новому периоду… постепенное измельчение, не изменившее облика целого, прерывается восходом, который сразу, словно вспышка молнии, озаряет картину нового мира» [51] Очевидно, внешнее сходство послужило причиной путаницы, когда высказыванию позднего Гегеля приписывается настроение, характерное для раннего периода его творчества.)
Научный потенциал понимания революций содержит гегелевская «Наука логики», где наличная действительность определяется как «надломленная в себе, конечная действительность, назначение которой – быть поглощенной» [52]. На это справедливо обращал внимание Ф.Энгельс: «…действительность, по Гегелю, вовсе не представляет собой такого атрибута, который присущ данному общественному или политическому порядку при всех обстоятельствах и во все времена. Напротив. Римская республика была действительна, но действительна была и вытеснившая ее Римская империя. Французская монархия стала в 1789 году до такой степени недействительной… до такой степени неразумной, что ее должна была уничтожить великая революция… И совершенно так же, по мере развития, все, бывшее прежде действительным, становится недействительным, утрачивает свою необходимость, свое право на существование…» [53] Но самим Гегелем этот вывод сделан не был. Диалектика была им принесена в жертву политическим взглядам, хотя их объективное содержание – обоснование буржуазной революции «сверху» в Германии. Неприязнь к революции «снизу» не делает Гегеля сторонником умирающего абсолютизма: его основная идеологическая задача – обосновать такое буржуазное преобразование, при проведении которого государство не «рассыпалось» бы, как во Франции.
Политик, историк и публицист Алексис де Токвиль (1805-1859) в книге «Старый порядок и революция» (1856), не прибегая к философским спекуляциям, в законченной форме выразил то же, что и Гегель, отношение к революции. Так же он признает недовольство «старым порядком» оправданным, и так же считает революцию «опасным лекарством», приема которого следует избегать, отдавая предпочтение реформам. Причина революции – не масоны и адвокаты, а свергнутое правительство, причем его вина заключается в том, что его политика породила зло, худшее, чем злоупотребления – революцию.
В то же время А. де Токвиль гораздо зорче Гегеля; он видит то, что не видел или не желал видеть Гегель, ставший пленником своей политической позиции: Франция не «вернулась к своему прежнему состоянию», а бесповоротно изменилась к лучшему.
Причины революции и вообще общественных явлений де Токвиль ищет в экономической сфере, поэтому он проявляет тот максимум научности в изучении революции, который возможен для ее противника.
«Революция свершалась отнюдь не в целях низвержения господствующих религиозных верований, как это полагали. Вопреки видимости, она была революцией социальной и политической, и именно в области социальной и политической она меньше всего стремилась привнести хаос, упорядочить анархию, как говорил один из противников преобразований. Скорее ее целью было усиление могущества и прав государственной власти. Революция не должна была изменить характер нашей цивилизации, как считали иные, остановить ее прогрессивное развитие, изменить суть фундаментальных законов, лежащих в основе человеческих обществ… ее единственным результатом было уничтожение политических институтов, на протяжении многих веков безраздельно господствовавших над большинством европейских народов и обычно называемых феодальными, и замена их более единообразным и простым политическим строем, основанием которого является равенство условий.
…Революция менее всего была случайным событием. И хотя она застигла мир врасплох, она однако была завершением длительной работы, стремительным и бурным окончанием дела, над которым трудились десять поколений. Не будь революции, общественное здание все равно повсеместно обрушилось бы, где раньше, где позже… Внезапно, болезненным резким усилием, Революция завершила дело, которое мало-помалу завершилось бы само собой. Вот в чем ее значение» [54].