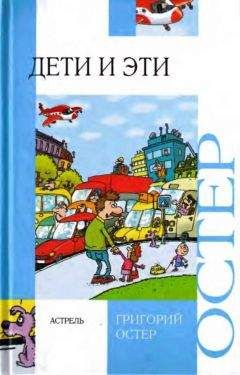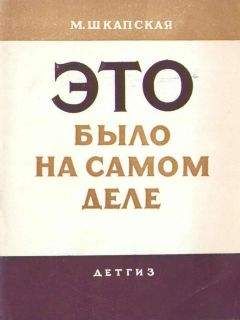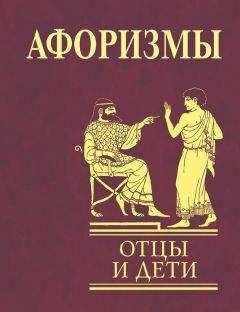Ирина Ратушинская - Серый - цвет надежды
Но до этого нам предстояло еще проехаться на «двойку», там нас принимать почему-то отказались и вернули в Барашево. Администрацию «двойки» можно было понять: мы не их ведомства, а мороки с нами не оберешься. Ни тебе ударить, ни матюкнуть, да еще эти заявления бесконечные про холод в камере и про грязь. Каждый раз они клялись, что больше нас в свой ШИЗО не допустят да только куда денешься супротив приказа КГБ? На этот раз взбунтовались. В Барашево нас из машины не выпустили. Зато Шалин — красный, с погромными бесами в глазах (мы его таким еще не видели) — скомандовал уже голосом ничего не соображающего человека:
— Сдайте все вещи, что взяли с собой!
И тут же в машину влез наряд каких-то прапорщиков и отобрали у нас мешки. Не оставили ни зубной щетки, ни расчески — и снова отправили на ту же «двойку», тем временем усмиренную телефонным звонком. В довершение всех бед того сумасшедшего дня — машину по пути так тряхнуло, что все лязгнули зубами, а я потеряла сознание. После первого сотрясения этого толчка оказалось мне достаточно.
Не помню, как, вытащив из машины, довели меня под руки до ШИЗО Оля и Наташа. Потом была комната, где нас переодевали в балахоны. Я сидела на полу, а Оля требовала немедленно врача и умоляла меня пока не трогать. Воспетая уже мною дежурнячка Акимкина решила, однако, первым делом вытряхнуть меня из одежды — и опять я куда-то провалилась и очнулась уже на полу знакомой камеры. Оля и Наташа рассказали мне, что раньше загнали в камеру их, а потом втащили меня за руки, без сознания, и бросили на пол. Пришел местный врач, диагностировал сотрясение мозга, прописал димедрол — и ушел. Вот сколько событий — и я их все пропустила! Зато на мне положенный балахон (я еще не знаю, что он — чесоточный) на голое тело, ноги босые… Все как следует по режиму. Тошнит, и голова раскалывается. Оля осторожно поит меня водой из помятой кружки и уговаривает не двигаться. Охотно подчиняюсь. Куда уж мне сейчас шевелиться! Почему-то я сильно паниковала в первые сутки — все боялась, не утратила ли часть памяти. И вспоминала, вспоминала — будто пыталась закрепить в мозгах самое важное. Сначала всю хронику зоны: кого когда в карцер и на сколько суток, все голодовки и забастовки, кто чем болел, кого и за что лишали свиданий. Вроде помню. Прекрасно, дальше! «Право получать и распространять информацию независимо от государственных границ» — это какая статья Международного пакта? А «право каждого покидать любую страну и возвращаться в свою страну»? Отлично, все помню. И немного успокаиваюсь.
Затем почему-то очень ярко в красках и запахах — выплывает из памяти, как мы этим летом праздновали Янов день — прибалтийский аналог славянского Ивана Купалы. Разожгли огонь в самодельном камине на дворе, за домом, сплели венки из цветов… Пани Лида сделала квас из черного хлеба, и черный же хлеб мы поджаривали на прутиках в огне. Падала роса, мы сидели на расстеленных телогрейках, и пани Лида пела нам старые латышские дайны, а Оля украинские песни. Огонь вообще притягивает взгляд, а уж от этого было не оторваться. Пришла дежурная Тоня с ночным обходом, но мешать нам не стала. Посидела с нами, хлебнула кваску — и ушла. А когда погас огонь, мы смотрели на звезды…
И вдруг меня точно ожигает — стихи! Может быть, я забыла стихи? Записанный текст хранить я давно уже не рискую, у меня припрятаны в надежных местах только крошечные листки с оглавлением. По этому списку я каждый день восстанавливаю их в памяти. Не все сразу, конечно, по двадцать — тридцать. Так дохожу до конца — и начинаю снова. Не забыла ли теперь? И где оглавление — один-то экземпляр всегда при мне? Слава Богу, не нашли. Но доставать его и разворачивать сейчас опасно, то и дело пялятся в глазок. Для них «политичка» с сотрясением — тоже не подарок. Ладно, пойдем по памяти. Что там было самое последнее?
Если волосы чешешь — забытая прядь
Означает дорогу.
Так поехали с Богом — чего нам терять
От острога к острогу!
Нам железная щель повторяет мотив
Из берез да заборов.
Напишите нам письма, за все нас простив:
Мы ответим нескоро.
Бьется щебень о днище, машину трясет
Видно, едем по шпалам.
И уже не до местных пейзажных красот:
Вот и щели не стало…
И какими краями теперь мы пылим,
И какими веками?
Все неровности жесткого шара Земли
Ощущая боками…
Но сойдя — в неизвестно котором году
Мы вернемся, быть может.
Напишите нам письма!
Пускай не дойдут.
Мы прочтем их попозже.
Вроде точно. Стоило ли прятать эти стихи, глотать их при обыске, зубрить наизусть и в итоге передать-таки на свободу, рискуя не только собой, но и человеком, чье имя не имею права назвать, но перед Богом вспомню? Не знаю. Не мне судить. Мое дело было тогда так поступать…
И вот мы едем обратно на той же машине. Грязные, как никогда — ведь ни умыться неделю было без мыла, ни причесаться. Еще не знаем, что нас ждет в зоне. Моя голова лежит у Оли на коленях. Она меня придерживает, чтоб еще раз не тряхнуло. Через больничку ведут меня под руки, ноги плохо слушаются. То ли сотрясение сказывается, то ли неделя под димедролом. Первую вижу Лагле. Она смотрит на меня и медленно меняется в лице. Все в порядке, дорогие, все в порядке!
Глава сорок пятая
Пани Ядвига считает своим большим грехом, что она — слабая и больная — не сумела уберечь от поругания освященные в Литве облатки. Наши утешения на нее не действуют: отпустить ей этот грех мог бы только священник, а священников сюда не пускают. На мужской политзоне сидит католический ксендз, но с мужчинами сейчас нет связи. И пани Ядвига решает наложить на себя покаяние — обет молчания на год. Уговоры тут бесполезны, и мы это понимаем. Единственное, в чем удается убедить нашу непреклонную пани — это чтоб она оставила за собой право в случае необходимости объясняться письменно. Это и для семьи облегчение — все же будут получать от нее весточки, и в случае болезни мы хоть будем знать, что с ней неладно. Много таким способом все равно не наобщаешься, ведь пишем мы друг другу записки, если информация не для подслушивающей аппаратуры, и знаем, насколько труднее письменно, чем устно. Да и по-русски писать пани Ядвиге непривычно, так что ограничений более чем достаточно. Даже и на такое — весьма относительное «послабление» понадобилось несколько дней дискуссии, и непонятно, как бы дело повернулось, если б не железный аргумент:
— Семья-то ничем не виновата! Им и так трудно, а за год без писем с ума можно сойти.
Ладно, писать пани Ядвига будет, но рта не раскроет. Даже свидание с сыном проведет молча, верная взятому обету.
И, действительно, наша пани не сказала ни единого слова с 19-го августа 85-го по 19-е августа 86-го. Только по тому, как она больная стонала во сне (но и во сне — без слов!), мы знали, что у нее и голос изменился без практики, стал глухой и хриплый.
Но чего мы не ожидали — это что так взбесятся КГБ и наша администрация. Пани Ядвига отказалась на этот год от голодовок и заявлений протеста. Она будет только молчать и поститься — больше ничего.
Казалось бы — чем им это может помешать? Но этот ее обет встал им поперек горла похуже голодовок. Потому ли, что, отказываясь от голодовок и заявлений, пани Ядвига оговорила, что она всей душой на стороне тех, кто это продолжает, и молится за нас — просто у нее не хватает сил на все сразу? Потому ли, что это был необычный шаг, и они попросту не знали, что делать? Так или иначе — все было сделано для того, чтобы заставить ее говорить. Приносят нам со склада одежду, которую мы можем покупать раз в год: телогрейки, сапоги, ткань на платья и рубахи. Все, конечно, лимитировано, но без этого и вовсе голой останешься! Мы все выписываем, кому что надо, и пани Ядвига тоже. Не тут-то было!
— Беляускене, Шалин распорядился, чтобы принимать у вас только устный заказ! Никаких записок! Не скажете, что вам надо, — ничего не получите вообще. Так что вы берете?
Пани Ядвига только улыбается. Оставляет на столе список и выходит вон. Мы, конечно, немедленно раскидали ее список по своим заказам — и ничего бухгалтеру не оставалось, как выдать нам все, что пани Ядвиге надо. Такая наша поддержка вызывает еще большую ярость — мы последовательно срываем все воспитательные мероприятия, направленные против мятежной пани. Попробовав пару раз выкаблучиваться с ее ларьком и наткнувшись на ту же тактику зоны плюнули и отоваривали пани Ядвигу по списку. Пришить ей нарушение режима было нельзя: где это в законе сказано, что зэк должен быть говорящим? Дежурнячки измываться над ее молчанием не были согласны. Ничего, кроме уважения, такая твердость у них не вызывала. Они только ахали:
— Ой, женщины, неужто так год и промолчит? Я бы дня не выдержала! Голодать — и то, наверное, легче!