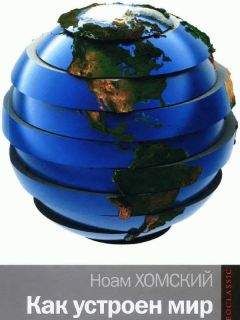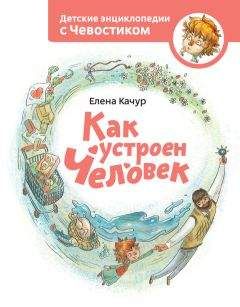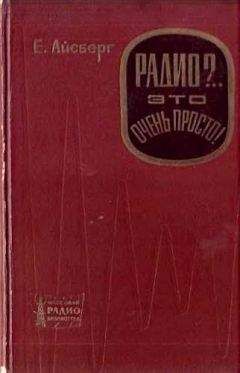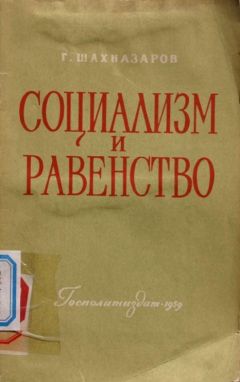Георгий Дерлугьян - Как устроен этот мир. Наброски на макросоциологические темы
Это вовсе не означает, что с постмодернизмом должна исчезнуть критическая направленность гуманитарных исследований, внимание к дискурсивным практикам либо гендерная составляющая. Но, скорее всего, следующее поколение гуманитариев пойдет в направлении более внятного и более увязанного с другими социальными полями анализа культурной и символической сферы – ибо постмодернизм как вчерашняя мода будет до неловкого маркирован предельной жаргонизацией, абстрактностью и философским волюнтаризмом. Этих «торговых марок» и станут тогда избегать.
Расчистка вторая: мир как чисто выгодная сделкаЕсли постмодернисты выглядели пестрой ватагой варваров, низвергающих статуи и пирующих ранее запретными и неприкасаемыми темами, вроде сексуальности, то с другого фланга двинулось войско куда более дисциплинированное, закованное в броню и уверенное в своей правоте, под стать религиозному ордену. Его авангард составили экономисты-неорыночники, воодушевленные своей политической востребованностью в период новейшего расширения капиталистической мироэкономики, которое с начала 1990-х гг. стало обозначаться глянцевым и довольно скользким словом «глобализация». Следом двинулись политологи транзитологической школы демократизации. Они распространили алгебраизированные формулы транзакционных деловых технологий на сферу властных отношений, а в перспективе – и всех прочих полей социальной деятельности. Рыночно-технократические политологи упорядочили и фактически возвели в теоретизированную норму текущие представления господствующих элит о самих себе и о способах элитного действия времен глобализации. Получилась довольно простая – если отвлечься от профессионального жаргона и алгебры – и жестко телеологичная картина исторической неизбежности глобальной экспансии рынка абстрактных стоимостей. За атомарную микрооснову глобализационного макропроцесса берется индивидуалистический принцип максимизации утилитарной выгоды. Это еще Адамом Смитом названная «невидимая рука», но доведенная до абсурдного предела.
При всей демонстративной изощренности научного аппарата, экономические теории глобальных рынков покоятся на фундаменте идеологической веры. Не составляет особого труда показать, что вера в непреложный прогресс капиталистических рынков оставляет непроясненные лакуны и противоречит массе фактов. Начать с того, что господствующие теории не имеют удовлетворительного объяснения причин экономического роста Запада в последние столетия и отставания остального мира. Поляризация между периферийными и центральными зонами современной миросистемы списывается на технологические инновации, которые, в свою очередь, возникают неизвестно откуда, буквально как Deus ex machina. Обычно указывается на те или иные культурные особенности Запада или правовые гарантии частной собственности – действительная роль и происхождение которых остаются непроясненными экстерналиями. Но почему тогда Запад так долго, вплоть до 1830-х гг., уклонялся от инновационного экономического роста, при этом успешно завоевывая мир?
Например, подробные исследования британских историков последних лет показали, что до этой даты темпы роста валового внутреннего продукта и тем более реальных доходов массы британского населения не превосходили показателей XIII–XV вв. Более того, сегодня уже не вызывает сомнений, что вплоть до 1800 г. Китай, Япония и прибрежные регионы Индии как минимум не отставали от Запада по душевому потреблению. Или почему, вопреки предписываемому «вашингтонским консенсусом» включению в глобальные рынки на основе либеральных демократий, свободы торговли, приватизации, фискальной сдержанности, низких налогов, институтов собственности и борьбы с коррупцией (т. е. стилизованного представления об Англии и Америке XIX в.), такой потрясающий пример роста в последние десятилетия дает коррумпированная номенклатурно-коммунистическая диктатура в Китае? Если дело в диктатуре, то не меньшими темпами расти должен бы Пакистан. Очевидно, дело и не в образованности населения, научной базе, наличии изобретателей, современной инфраструктуре и прочих недавно еще модных элементов постиндустриальной «экономики знаний» – в этом случае после падения косных коммунистических бюрократий расти должны были бы мы, страны Восточной Европы.
Если в теории обнаруживается столько непроясняемых лакун и произвольно вводимых эпициклов, то налицо, по известному определению Томаса Куна, предпосылки для научной революции. Однако Нобелевские премии в экономике продолжают присваиваться за работы либо частно-технического порядка, либо по довольно очевидным политическим соображениям. Институциональные и идеологические основы господствующей англо-американской версии экономической науки пока достаточно сильны для поддержания практически неоспоримых позиций.
Экономическая ортодоксия предполагает прежде всего отказ по умолчанию от исследования властной и конфликтной составляющей в истории капиталистической мироэкономики. Здесь, если говорить без обиняков, находится источник как политической неуязвимости, так и аналитического тупика экономической науки.
Капитализм действительно отличается от прочих рыночных систем прошлого своим глобальным размахом (но не только в наши дни, а с самого начала – возьмите генуэзских и венецианских купцов или голландских мореходов), интенсивностью операций и масштабом хозяйственной экспансии – чего стоит индустриальная революция и ее последствия! Все это готовы были признать и либеральные экономисты, и марксисты. Однако капитализм также разительно отличается от предшествующих рыночных систем регулярным употреблением власти – в первую очередь неосязаемой власти, которую дает распоряжение деньгами, но также средствами политико-административного предписания, военного принуждения и идеологического давления. Власть целенаправленно и постоянно используется для обеспечения условий успешного воспроизводства капитала, в первую очередь достижения устойчиво высоких норм прибыли. Это ясно осознавал и предтеча современного экономического анализа Адам Смит, сетовавший по поводу «дифференциала силы», применявшегося европейскими бизнесменами со времен Великих географических открытий. Именно конфликтная сторона ранней теории Маркса сохранила в определенной мере свое значение, хотя прочие элементы его анализа капитализма в дальнейшем приходилось пересматривать, отвергать, уточнять и достраивать блестящей плеяде ученых от Вебера до Шумпетера, Поланьи, Грамши и Броделя и уже наших старших современников: Валлерстайна, Арриги, Стинчкома, Тилли, Бурдье, Голдстоуна, Манна, Коллинза.
Проблема и просто беда современной экономической науки, как настаивали ее видные внутренние критики Роберт Хейлбронер и Альберт Хиршман[55], именно в том, что по явно идеологическим причинам из неоклассической экономики оказалась экстернализирована, вынесена за скобки конфликтно-властная динамика капитализма. Когда в 1890-х гг. первое поколение профессиональных университетских экономистов бралось за амбициозный проект создания точной математизированной науки о рынках, были отброшены все рассуждения классиков политической экономии о политической власти – как донаучные и не имеющие отношения к узко и строго определенному предмету. В те годы за образец научности была взята термодинамика, отчего, скажем, понятие стоимости из сложного и конфликтного социального взаимоотношения стало трактоваться подобно атомарным весам и зарядам субъектов рынка (о чем полезно почитать в монографии американского историка экономики Филиппа Мировски с остроумным названием «Больше жара, чем света»[56]).
В среде экономистов и политологов периодически возникают возмущения господством схоластики, которая предписывает все более изощренное алгебраическое моделирование идеологической абстракции свободных рынков. Пока я пишу эти откровенные строки, где-то в Америке или Европе стонет аспирант или аспирантка, пытающиеся втиснуть свои эмпирические наблюдения и собранные данные откуда-нибудь из Аргентины или Кыргызстана в формалистическое доказательство некоей неоинституциональной схемы principal/agent или теоремы рационального выбора. Роскошный ворох эмпирики никак не умещается в маленький жесткий чемоданчик, а сроки подачи диссертации все ближе – и уже маячит безработица по окончании аспирантуры, страх за потраченные годы и чувство собственной ненужности. Протесты случаются как со стороны впадающей в отчаяние научной молодежи (несколько лет назад посредством Интернета широко передавалась анонимная прокламация за подписью Mister Perestroika), так и со стороны некоторых мэтров ранга Нобелевских лауреатов Джозефа Стиглица и Амартьи Сена. Надо отметить, что большинство критиков не подвергало сомнению саму экономическую парадигму. Чаще это были «ереси», вызывающие на диспут текущую ортодоксию и порицающие ее с позиций гетеродоксии в рамках той же церковной доктрины – скажем, в вопросе о соотношении роли рынка и государства, о преобладании формального моделирования или исторического институционализма. Профессиональные ассоциации экономистов и политологов реагировали в лучшем случае созданием специальных комиссий для рассмотрения оппозиционных петиций.