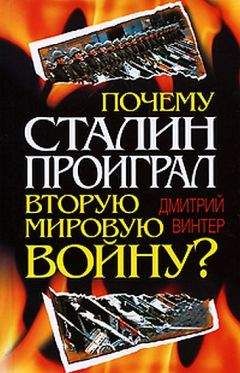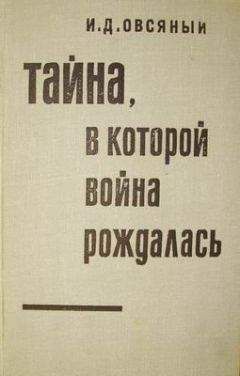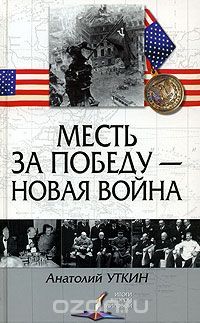Владимир Кузнечевский - Сталин и «русский вопрос» в политической истории Советского Союза. 1931–1953 гг.
Индивидуальность скрывалась тщательно.
Впрочем, Косыгин чем-то отличался. Пожалуй, его отличала хмурость. Он ее не скрывал, и это привлекало. Хмурость его шла как бы наперекор общему славословию, болтовне, обещаниям скорых успехов.
Из мельчайших черточек, смутных ощущений мы, ни о чем не ведающие винтики, накапливали симпатию к этому озабоченному работяге, который силится и так и этак вытащить воз на дорогу.
…Под коротким седым ежиком лицо узловатое, давно усталое, безулыбчивое. Никаких предисловий, деловитость человека, привыкшего быстро решать, а не просто беседовать.
Но мне-то надо было именно беседовать, заняться воспоминаниями, мне надо было сбить его деловитость.
Поэтому вместо вопросов я принялся осматривать кабинет. Нарочито глазел, как бы по-писательски, не скрывая любопытства. Дубовые панели вдоль стен, могучий старомодный письменный стол в глубине, ковровые дорожки, тяжелые кресла. Чем-то этот просторный кабинет, и высокие окна, и вид из них показались знакомыми. Как будто я видел все это, но когда?.. Он уловил мое замешательство. «Да это же кабинет Сталина», – подсказал мне Косыгин.
Вот оно что! Тогда ясно. Сколько навидались мы фотографий, кинофильмов, где Сталин, попыхивая трубочкой, прохаживался по этой дорожке, вдоль этого стола. Годами он работал здесь.
…Все во мне насторожилось, напряглось, словно бы шерсть вздыбилась.
– М-м да-а, – протянул я с чувством, где вместо восторга было то, в чем я сам не мог разобраться. Косыгин бросил на меня взгляд, линялые его глазки похолодели.
Мы сели за маленький столик поблизости от входа, подальше от того рабочего письменного стола. Втроем. Косыгин, Б-ов и я. На столике стоял белый телефон. Ни разу за весь вечер никто не отвлек нас звонком, никто не вошел.
Я достал магнитофон, небольшой испытанный магнитофон, который безотказно послужил нам уже в сотне встреч. Но Косыгин отвергающе помотал головой.
Нельзя! Почему? Я недоуменно уставился на него. «Нельзя», повторил он именно это слово. А от руки записывать карандашом? Это можно. И предупредил, что, когда запись будет обработана, прежде чем включать в книгу, он просит обязательно дать ее ему прочесть. И еще: поменьше упоминать его личные заслуги, не выпячивать его роль.
Все это было изложено сухо, бесстрастно и без каких бы то ни было пояснений. С самого начала мне давали понять: все это не так просто, извольте соблюдать.
Он испытующе подождал, не откажусь ли я?..
Итак, что меня интересует? Я перечислил вопросы.
Один из них касался октябрьских дней 1941 года в Москве, самых критических дней войны. Москва поспешно эвакуировалась, в Куйбышев отбыл дипломатический корпус, отправили артистов, Академию наук, наркомов… Из руководителей остались Сталин, Маленков, Берия и он, Косыгин. Между прочим, организуя отправку, Косыгин назначил Николая Алексеевича Вознесенского главным в правительственном поезде.
Вознесенского такое поручение рассердило, характер у него был крутой, его побаивались, тем более что он пребывал в любимцах у Сталина. Сталин его каждый вечер принимал. Вознесенский пригрозил Косыгину, что пожалуется на это дурацкое назначение. Следует заметить, что Вознесенский был уже кандидатом в политбюро, а это много значило.
– Я не отступил, и Вознесенский вскоре сдался: черт с тобой, буду старшим. А я не боялся, мы с ним друзья с ленинградских времен… – Косыгин вдруг замолчал, сцепил пальцы, останавливая себя.
Мало уже кто слыхал про Вознесенского. Сделали все, чтобы имя это прочно забыли. Как и «ленинградское дело». Не было такого, и следов нет.
Тем более что делу этому не предшествовала борьба мнений, оппозиция, никого не разоблачали. Да и разоблачать-то было нечего. Не было публичного процесса. Уничтожили втихую. Наспех заклеймили, прокляли, но толком никто не понимал, за что, почему.
Значит, они были друзья… Вознесенский Николай Алексеевич, один из самых образованных и талантливых в том составе политбюро. «Один из» – это я по привычке. Просто самый образованный, талантливый, знающий экономист.
Заодно уничтожили и брата его, министра просвещения РСФСР, бывшего ректора Ленинградского университета, и сестру, секретаря одного из райкомов партии Ленинграда, всю их замечательную семью. Всех подверстали к ленинградским руководителям – П. Попкову, Я. Капустину, А. Кузнецову, в то время уже секретарю ЦК. Происходило это спустя четыре года после войны. В 1949–1950 годах. Те, кто вернулся оттуда в шестидесятые годы, случайно уцелев, рассказывали мне, как пытали и Кузнецова, и других. Добивались от них, чтобы признали заговор, будто собирались создать российское ЦК, сделать Ленинград столицей России, противопоставить, расколоть партию…
Словом, даже для того времени – бредовина, состряпанная кое-как. Преподносил ее в Ленинграде на активе Маленков, не заботясь о правдоподобии, – наплевать, сожрут.
Кто там с кем боролся за власть – Маленков с Берией, оба ли они против Вознесенского, не разбери-поймешь. Убрать Вознесенского устраивало и остальных, поскольку Сталин прочил его в преемники, механика клеветы была отработана.
Косыгин, конечно, знал подноготную тех страшных репрессий, что опустошили Ленинград, перекинулись и на Москву, и на другие города. Брали бывших ленинградцев, и не только их. Косыгин уцелел чудом, почти единственный из «крупных» ленинградцев. В ту зиму 49/50-го года за ним могли прийти, взять его в любую минуту. Внешне он оставался на вершине власти, его чтили, боялись, сам же он жил день и ночь в непрестанном ожидании ареста. Смерть предстояла совсем иная, чем наша фронтовая, солдатская, с пулевым присвистом или снарядным грохотом, отчаянная или нечаянная, и другая, чем блокадная – обессиленно-тихая, угасание… Он-то хорошо знал, что вытворяли с его друзьями, про ту пыточную, издевательскую…
Понимал ли он гнусность происходившего? Или все простил за то, что его минуло? Нет, вроде не простил… Но оправдывал ли Сталина? Чем мог его оправдать? Позволял ли себе думать об этом? Что же, гнал от себя недозволенные мысли, чтоб не мешали работать? С годами привык гнать, ни о чем таком не задумывался? Куда ж они деваются, придавленные сомнения, загнанные в подполье мысли, во что превращаются старые страхи?
Ничего нельзя было прочесть на его твердом, опрятно прибранном лице.
– За что же его так, – начал я про Вознесенского, – если Сталин его привечал, то почему же…
Но тут Косыгин, не давая мне кончить, словно бы и не было паузы, словно бы я помешал ему, сделал останавливающий жест и продолжал свой рассказ.
Позже я понял значение этого предупреждающего жеста….
В Ленинград он вновь прибыл в январе 1942 года. Решилось это под Новый год. 31 декабря к Косыгину зашел П. Попков, в то время председатель Ленгорисполкома. Приехал он в Москву в командировку. С Косыгиным они дружили – земляки, да к тому же Косыгин сам когда-то работал в Ленинграде на той же должности. За разговором припозднились, и Косыгин предложил поужинать вместе. В это время позвонил Вознесенский, спрашивает: где будешь Новый год встречать? «Не знаю». – «Давай у меня дома». – «Хорошо, но я с Попковым приду». – «Годится». Договорились, поехали к Вознесенскому, поужинали у него, хозяин предложил посмотреть какую-нибудь комедию. Все же Новый год. Отправились в просмотровый зал на Гнездниковский переулок.
Сидят, смотрят, смеются, вдруг появляется дежурный: Косыгина к телефону. «Вас товарищ Сталин вызывает». Действительно, Сталин его разыскал, спрашивает, что он, Косыгин, делает? Кино смотрит? С кем смотрит?
Выслушал, помолчал, потом спрашивает – каким образом вы вместе собрались?
Косыгин подробно объяснил, как происходило дело. Сталин говорит: «Оставь их, а сам приезжай к нам». Косыгин приехал. Было часа три ночи. У Сталина сидели за столом Маленков, Берия, Хрущев, еще кто-то. Выпивали. Настроение было хорошее. Берия подшучивал над тем, как лежали в канаве. И тут Сталин сказал: «Неплохо бы вам, Косыгин, в Ленинград поехать, вы там все знаете, наладить надо эвакуацию».
– Так состоялось мое назначение.
– Ну и ну, – сказал я. – Хорош Сталин, что ж это он на каждом шагу подозревал своих верных соратников?
У меня это вырвалось непроизвольно, я был полон искреннего сочувствия к Косыгину.
Он помрачнел и вдруг с маху ударил ладонью по столу, плашмя, так что телефон подпрыгнул:
– Довольно! Что вы понимаете!
Окрик был груб, злобен, поспешен. Весь наш разговор никак не вязался с такой оплеухой.
Меня в жар бросило. И его бескровно-серое лицо пошло багровыми пятнами.
Б-ов опустил голову. Молчание зашипело, как под иглой на пластинке. Я сунул карандаш в карман, с силой захлопнул тетрадь. Пропади он пропадом, этот визит, и эта запись, и эти сведения. Обойдемся. Ни от кого начальственного хамства терпеть не собираюсь.