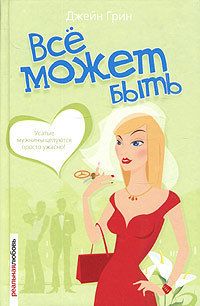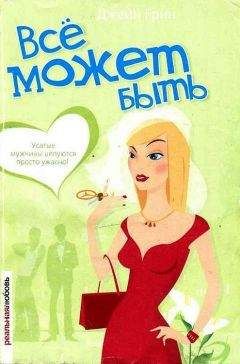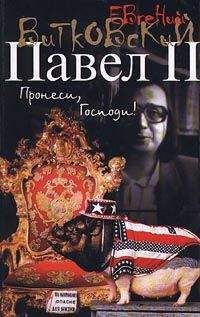Григорий Свирский - Ленинский тупик
Зот Инякин приехал позднее. Сморщенный, мятый, словно городская власть не ругала его за отставание от плана застройки и «бардак» со снабжением, а — жевала. Проскользнул вслед за Степаном Сепановичем, с появлением которого разом оборвались и шум и смех.
Ермаков изобразил на своем лице, обращенном к окну, независимость и полнейшее спокойствие, однако носок ермаковского ботинка стал очерчивать на полу нечто вроде круга. Один, другой…
Зот Инякин, отыскивая взглядом свободное место, задержался возле дверей. Степан Степанович указал ему пальцем на стул возле себя.
Худое, с желтизной на щеках, лицо Инякина не выражало ничего, кроме покоя и сытости, Игорь Иванович обратил на это внимание Ермакова.
— Лицо известно какое, — едва ли не на весь зал отозвался Ермаков, не прекращая дышать по системе йогов. — Коровье вымя!
Инякин быстро поднял на Ермакова свои красноватые, точно налитые кровью, глаза. Игорь инстинктивно придвинулся к Ермакову. Его охватило то острое, всепоглощающее напряжение, которое он испытывал, лишь выводя самолет на боевой курс.
Инякин докладывал о строительстве показательного квартала в Заречье. Но вот в зал вошел Хрущев, и докладчик тут же вперил взор в напечатанные на машинке листки, больше уже никто не видел его глаз.
Игорь знал, что Хрущев приедет выслушать мнение архитекторов и строителей «квартала будущего», как его назвала газета «Правда».
Хрущев кивнул, как старым знакомым, Ермакову, Некрасову, еще нескольким строителям, которые задвигалаись, зашептались, словно до этой минуты сидели схваченные морозцем — и вот разморозило…
Едва Инякин умолк, Игорь Иванович попросил слова — для замечания по существу, как сказал он.
— Исполком городского Совета обсуждает ход возведения квартала будущего, — начал он, поднимаясь на ноги и вцепившись двумя руками в спинку стула. — Строит трест номер… — Игорь Иванович назвал фамилию управляющего. — А докладывает не тот, кто знает о положении дел лишь по отчетам. Отчего так получается?
Игорь Иванович отстегнул боковой карман своего праздничного, чуть франтоватого синего пиджака (в торпедную атаку в свое время Игорь ходил неизменно при всех орденах), достал из кармана несколько листочков, вырванных ради такого случая из тетради с пожелтевшей шутливой наклейкой «Диссертация о Шуркиной кепке».
Эти тетрадные листочки неопровержимо доказывали, что в последние шесть лет инякинское управление хирело, как хиреет город, оказавшийся вдали от главных дорог. Вначале от управления отпочковались механизаторы, затем обрели самостоятельность отделочники.
Инякннское управление стало штабом без армии, страхи которого за исход кампании с утратой власти все более возрастают. Бессильное помочь делу и смутно ощущающее свою немощь, оно тем не менее забрасывало стройки потоком бумаг: «Давай-давай!» Все строительные пути-дороги захлестнула бумажная метель.
С бумажными завалами свыкались, как свыкаются с камнем-валуном на дороге: кажется, проще, объехать, чем сдвинуть с места.
Чем круче становились эти завалы, тем в большую силу входили мастера объезжать бумажные сугробы на кривой. Лишь они одни встречали инякинские приказы без раздраженного восклицания: «Опять бумажка?!»
— Спросите Ермакова, сколько было погребено под этими бумагами добрых начинаний! — воскликнул Игорь Иванович, оборачиваясь к Ермакову, который ерзал на стуле, как в день запуска своего стана: «Пойдет или не пойдет?!» — Сколько пришлось выслушать сетований прорабов: «Ни одно дело не прошибешь!», проклятий снабженцев: «К каждому кирпичу надо приложить по десять бумажек!» А кто не помнит мученического рождения первой на стройке комплексной бригады! Инякин поддержал ее, но, как и все другое, на бумаге.
Кустовое управление — это вор, запустивший руку в карман государства.
Хрущев оглянулся на председателя исполкома горсовета, спросил с удивлением: — Зачем вам это управление?
Председатель исполкома повертел в руках трубку с засмоленным чубуком, кинул ее на стол. Что мог он сказать? Что не доверяет Ермакову? Лучшему управляющему…
Хрущев оглянулся на председателя исполкома Горсовета, спросил с удивлением: — Зачем вам это управление?
Председатель исполкома повертел в руках трубку с засмоленным чубуком, кинул ее на стол. Что мог он сказать? Что не доверяет Ермакову? Лучшему стройтресту…Только сейчас Игорь понял: Инякин при властях вроде как око государево.
— После реорганизации — выдавил из себя — Остались хвосты.
Хрущев сделал резкое движение рукой, как бы отрубая что-то.
9
Нет Инякина! Нет Зотушки!..Едва Ермаков и Игорь Иванович вышли из зала заседаний исполкома горсовета, как Ермаков от избытка чувств принялся поддавать Игоря Ивановича кулаком в плечо:
— Александр Матросов, вот кто ты! Кинулся грудью на дот. Чиновничий…
Вбежав в будку телефона-автомата, Ермаков набрал номер Акопянов.
— Огнежка?.. Готовь скатерть-самобранку… Как все праздники прошли?! Нынче почила в бозе старейшая династия в мире… Нет, старше Романовых. Старше Гогенцоллернов. Старше Габсбургов… Старше! Старше!..
Про династию Инякиных не слыхала? — Плечи Ермакова приподнялись. — Необразованность!
В трубке что-то хрипело, но это не помешало Ермакову расслышать: высокий голос Огнежки стал глубоким и растроганно-нежным, словно она дождалась наконец признания любимого. Ермаков, человек отнюдь не сентиментальный, почувствовал, как у него что-то подступило к горлу.
«Черти лопоухие!.. Радости у нас одни, горести одни..»
— Отца давай к телефону! — закричал он во все горло.
Ликовали три дня. Зота — нет! Кровососа — нет!
Три дня Ермаков начинал в тресте все свои поздравления, назидания и даже технические советы с одного и того же восклицания, звучащего торжественно:
— Как, други, дышится без околоточного управления?
На четвертый день утром Ермакова вызвали к новому заместителю управляющего Главмосстроем, которому трест отныне подчинялся непосредственно. Ср-рочно! Ермаков отправился туда и еще в приемной вдруг сжался внутренне, увидев пышноволосую секретаршу Инякина с пилочкой для маникюра в руках. Рванул на себя тяжелую, обитую коричневой кожей дверь кабинета и на мгновение прислонился плечом к косяку двери, различив в углу кабинета, над огромным письменным столом, до тошноты знакомое лицо. Словно бы изнеможденный ночной работой встал под душ, из которого хлынула… ржавая вода. И нет этой ржавой воде конца-краю.
Прямо от Инякина Ермаков приехал на стройку. Он почти всегда шел сюда, когда ему было невмоготу. К старикам-каменщикам. Отвести душу… И наткнулся на Огнежку.
Вернее, Огнежка наткнулась на него. Она осматривала этаж, где только что прокупоросили стены. Сырой, затхлый запах медного купороса был неприятен ей с детства, усилием воли она заставляла себя идти не спеша вдоль анфилады комнат, отмечая недоделки.
Ермаков стоял в дальней комнате, лицом к оконному проему. Повторял негромко одну и ту же фразу:
— Как было, так и будет. Ничего не изменится….
Еще не зная, в чем дело, Огнежка остановилась в испуге: в голосе Ермакова; почудилось ей, звучала безнадежность. Таким безнадежным тоном отец ее, бывало, говаривал: «Плетью обуха не перешибешь».
Но отцовская интонация… у Ермакова?!
Ермаков сообщил ей, уходя, что Зота спас Хрущев. «Похоже, видит в Зоте, как в зеркале, самого себя, незаменимого… путаника» — Испытаные кадры, — сказал о нем генеральный — Золотой фонд!»
— Золотарики чертовы! — Ермаков проскрипел зубами.
Оставшись одна, Огнежка почувствовала, что задыхается, и оперлась рукой о влажную, вонючую стену. «Как было, так и будет… Как было!..»
Она закрыла обеими руками, словно ее хлестнули по лицу.
Все разом!
Неделю назад Огнежка поймала себя на том, что по дороге из библиотеки иностранных языков свернула на улицу, где живет Владик… Ноги, казалось, сами привели ее к стеклянному, забранному решеткой парадному. Цветные стеклышки парадного наполовину выбиты, остальные запылились настолько, что цвет можно лишь угадать.
И все же на чисто, со скребком вымытую лестницу по-прежнему падали из подъезда желтые, красные, зеленые блики… Точно вступаешь в мир сказки.
Огнежка любила подставлять под эти блики ладони: воочию видишь себя и краснокожей, и желтокожей, и даже зеленой, как ящерица.
Сказка оборвалась тут же, за коричневой, обитой дерматином дверью квартиры.
Те же ослепительно белые чехлы на креслах, которые всегда вызывали у нее желание уйти не присаживаясь. Тот же запах мяты и тот же драматический шепот: «Тише! Владик работает…»
За стеной приглушенно звучало рондо каприччиозо. Владик, видимо, готовился к концерту.