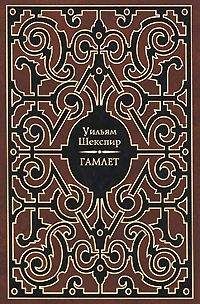Юрий Екишев - Россия в неволе
– Эй, баланда! Преступный мир никогда дешевым не был! Грузи, как своего подельника грузил...
– Смотри, в "столыпине" словимся. Сам будешь жалеть, что твоя мама твоему папе давала!
– Да лучше бы бабушка твоя не родилась...
– Да лучше б ты на трусах у папы засох...
Лучшие друзья собирателей фольклора – это злоязыкие арестанты...
# 16. Неопознанный объект оказался женщиной...
Это из рапорта о задержании Горы-Любы. Она заехала на централ через необычную драку с милицейским нарядом. Ее сначала поместили в обезьянник к мужикам, и она описывала задержание свое так:
– Представляешь, до чего дошли! Я ему всего лишь в рожу наглую плюнула, а он меня по яйцам! по яйцам!..
Потом, когда неожиданно выяснилось, что это – женщина, в дежурной части был скандал. И дежуривший на тот момент капитан вынужден был, непрерывно сквозь зубы матерясь, выписывать этот ставший знаменитым рапорт-сопровод:
"Задержанный выражался нецензурно, вел себя крайне агрессивно, и не был идентифицирован..."
На самом деле Гора-Люба, действительно девушка крупная, шла по улице с дня рождения подружки. И от широты сердца, от всей души горланила на всю уснувшую пригородную улицу злые частушки. От ей только ведомого горя. От избытка чувств. От нехватки мужиков, которых на тринадцать таких Люб – один. И тот, спившийся какой-нибудь Вася, у которого одно название мужик, а от непрерывного потребления "Трои" – давно уже неизвестно что между ног болтается:
– Утром, встанешь, самый сон!..
Сердце рвется из кальсон!.. – орала Любка и за себя, и за того мужика, недолюбленного, неприласканного ею, спавшего сейчас под каким-нибудь забором. Из подворотен и темных углов только потявкивали собачонки, провожая не в меру разошедшуюся от избытка любви Любку, передавая ее одна другой, по очереди, от двора к двору, от одних запертых ворот до других, от одних окон, полыхающих неверным телевизионным пламенем – к другим, темным и мертвым. Чтоб взбодрить эту агрессивность, Любка перешла на другую тему – чтоб смысл ее имени, жизни, женской сущности – любить, быть любимой – хоть как-то осуществился. Чтоб найти, наконец, сегодня упокоение в чьих-нибудь объятиях, хоть отдаленно напоминающих любящие:
– Жил-был на свете Антон Городецкий!
Его бросила жена, он грустил не по-детски!..
Но Антон ни городецкий, ни сельский, ни поселковый – не появлялся, несмотря на отчаянные призывы. Более того, даже никакого намека на это не было. Что Любка отметила очередной частушкой, пытаясь добиться хоть каких-то перемен:
– Милый баньку растопил,
Затащил в предбанник,
Меня на пол повалил,
И набил е...льник.
Не было ни милого, ни бани, ничего. Мир умер. Это был ад. Впереди темного переулка остановилась какая-то машина, и выключила фары. Любка двинулась туда, в надежде найти объект применения клокотавшей в груди любви – не любви, не поймешь какой чувственной жизненной обжигающей энергии. Приблизившись, Любка распознала, что под расцветающей черемухой стоит милицейский "уазик". В машине сидел один милиционер, а в узкий проход между двумя соседскими заборами, видимо, давно зная об этой расщелине, вприпрыжку забежал другой, известно зачем. Любка выбрала того, кто побежал по надобности в проходняк, и втиснулась туда же, надеясь застать мужика (пусть даже в форме и при исполнении неизвестно перед кем своих обязанностей, ведь первая их обязанность – перед ними, бабами и детьми...) в самый подходящий для нее момент.
Ей повезло. Милиционер как слабая луна, освещал ей путь оголенной частью тела в неверном мерцании начинающихся белых ночей. И даже не обернулся на потрескивание и шуршание сзади.
– Ну-ка, давай, чтоб струя была дальше горизонта! – взревела Любка у него над ухом. Ничего подобного в жизни не испытывавший сержантик милиции так и присел от страха, и так и повернулся к ней с прибором в руках, вынутым из своей кобуры, посерев лицом будто встретив разъяренную медведицу:
– Что?
– Говорю, стреляй дальше, чем видишь!..
Сержантик не то что опешил или онемел – можно сказать по-русски, он действительно охренел, то есть превратился весь в стоячий соленый хрен. Мерилин Менсон и Фредди Крюгер просто малые дети по сравнению с таким бесплатным сеансом ужаса, который выдала Любка тому бедняге. Бежать ему было некуда. Взбираться тоже – кругом коробочка из высоких, плотно сбитых, ослизлых досок. Гора-Люба придвинулась теснее, и участливо поинтересовалась:
– Закончил?
Милиционер затравленно и обреченно кивнул. И почему-то поинтересовался:
– Прятать?
– Как хочешь...
Они простояли так молча долгую-долгую минуту: сержантик будто с детонатором, будто с гранатой с выдернутой чекой, а Любка – как цистерна нитроглицерина, способная взорваться своей неистраченной нежностью от малейшего сотрясения, от ничтожнейшей искорки любви.
Но любви не было.
Милиционер стоял к Любе вполоборота и смотрел на ее лицо, а она – куда-то вниз. Перед ним за это мгновение пролетела отчетливо очень сложная гамма Любкиных чувств и гримас, вся ее трогательная и простая, без кривляний, жизнь, как будто у умирающего перед смертью, но он не понял ее, а смекнул только одно, что это действительно будет что-то схожее со смертью. И ему никто не поможет, если не разминировать осторожно эту ситуацию. И уговоры не подействуют.
Он слегка пошевелился, и Любка невольно дернулась. Тогда он принял единственно правильное в этой ситуации решение. Стал, не дергаясь, не шевелясь, рассказывать что-то личное, из своей короткой невыразительной, как его форма, жизни:
– Я женат...
– Это ничего, – осмыслила эту информацию Любка. Ее губы высохли, то ли от выпитого, то ли от песен, голосок похрипывал – может, от какого-то предчувствия.
– Двое детей, девочки обе... Зарплата небольшая...
– Девочки? Это плохо, – голос Любки слегка дрогнул, металл дал трещину, ржавчину, жизненную оскомину.
– Я же милиционер...
– Ничего, разберемся, – Любка опять посуровела, как мелькающий холодным отблеском закаленный булат.
– Давай, я тебе денег дам... Всех денег... – это была роковая ошибка, и вовсе не грамматическая. Любка задрожала, уронила слезу, и тут-то и разродилась своим роковым плевком. И начала методично, по-фабричному бить милиционера. За то, что хотел за деньги откупиться от ее бескорыстной любви. За то, что готов был отнять последние деньги у своих несчастных, как Любка, девчонок, даже более несчастных, потому что у них еще все впереди. За то, что может, не поняла она его, и он хотел от сердца дать ей на опохмелку, и все же хоть так полюбить ее, непутевую. За то, что мир опять стал прежним, за то, что она так запуталась в жизни, в мире, в котором любовь оскудела и зачахла, как нечто редкое, как оставленный огород, затянутый сорной целиной.
И бить-то стала сквозь слезы, несерьезно, а так, для острастки, замахиваясь обоими руками и опуская их на эту непутевую сгибающуюся фигурку. Милиционер не защищался, только, съежившись, лихорадочно дергал и пытался застегнуть ширинку, запихнув туда все хозяйство, все сопротивлявшееся, уязвимое, предательское содержимое. И тут на подозрительный шум выдвинулся напарник бедолаги. И началось то, с чего завязался этот рассказ:
– Стой, – крикнул второй, соображая на ходу – что там происходит в конце тупика?
Любка обернулась, и ощутила первый удар по плечу. Сзади на нее наконец-то набросился женатик-неудачник, с каким-то истерическим визгом. И тут Любка и почувствовала град ударов коленкой между ног...
– На, на, на!
Ее доставили, тихо стонущую от обиды, в дежурку, и запихнули в мужскую клетку обезьянника. Дальше выяснилось, что этот несчастный "неопознанный объект оказался женщиной..."
Когда Любку подняли в СИЗО, и поместили в камеру – то оказалось, что в камере – одни цыганки, по 228-ой (героин), правда у всех части разные – от хранения, до особо крупного размера. Первое, что она сделала – привела в порядок переписку. Чтоб одна – писалась только с одним. И чтоб все было максимально честно и серьезно. А не то что начиналось бы за "люблю", а кончалось за "куплю", за деньги, за пачку чая или фунфурик шампуня. Она это ненавидела: любовь должна быть бесплатной, как все в церкви.
# 17. Борьба и слабость звезд...
Родословная любого государства, любого княжества, пусть даже такого маленького, как тюремная камера – качание маятника: то люди, то шерсть, то ремонт, то пустота... Правда, границы камеры – неизменны. Границы государств – другое дело. Сильные, как Екатерина, Иоанн Грозный – расширяются, приобретают. Слабые – Ленин, Горбачев, Ельцин, Путин – только теряют территории, влияние, друзей – Сербию, Ирак, Иран. Одни – огромными кусками, как дважды потерянная Украина, сначала Лениным, по Брест-Литовскому договору, потом Горбачевым с Ельциным, профуканная до поры до времени, пока мы не станем сильными, и тогда к нам под крыло – опять потекут. Украина никуда не денется. Белоруссия рвется к нам, но нынешние слабаки пока умеют только разбазаривать и раскидываться налево-направо чужими приобретениями...