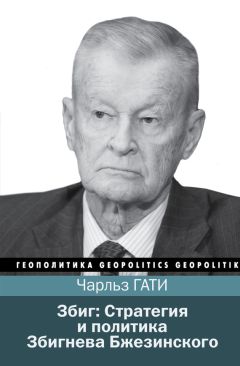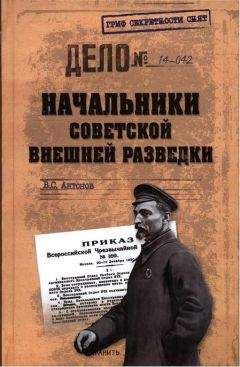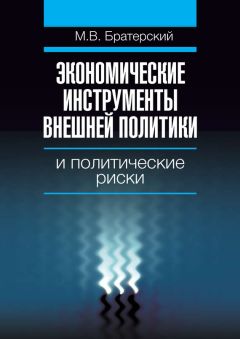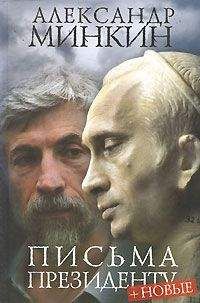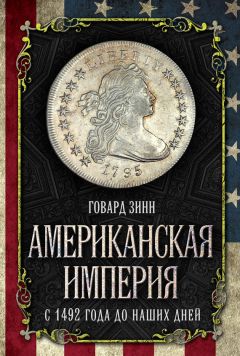Дэвид Игнатиус - Америка и мир: Беседы о будущем американской внешней политики
И необходимо соблюдать баланс между использованием власти для обеспечения национальной безопасности и национальных интересов — и для попыток улучшить положение всего человечества. Сочетать эти два дела нелегко, но надо понимать, что иначе нельзя. Нельзя быть циником или лицемером — это деморализует, это подрывает дух нации. Нужна уверенность, что поступаешь исторически правильно. Необходимо чувство, что твои действия созвучны загадочной мелодии истории и что ты выбрал верное направление.
То, о чем мы пытаемся говорить сегодня, относится именно к этой теме. Как в начале двадцать первого века проложить внешнеполитический курс Америки, полностью учитывающий реальность, неориентированный на более масштабную цель? Президент в своем последнем ежегодном послании «О положении страны» сказал, что определяющей задачей двадцать первого века будет борьба с терроризмом. Это абсурд — хотя бы потому, что сейчас идет год две тысячи восьмой, и впереди еще девяносто два года. Определять главную задачу столетия в самом его начале — преждевременно. То, что делаем сегодня мы с Брентом, — пытаемся нащупать путь к более детализированному и глубокому определению задач столетия и сформулировать, какая именно американская политика, сочетающая принципы и силу, будет правильным на них ответом.
СКОУКРОФТ: В этих ярлыках — реалист, идеалист — трудно разобраться. Я не знаю, кто я. Обо мне пишут и говорят, что я реалист. Во времена «холодной войны» меня критиковали за реализм левые, потому что в центре моего внимания была советская военная угроза, а не существование ядерного оружия вообще. Теперь меня критикуют как реалиста правые. Так что эти характеристики меняются, а я какой был, такой и остался.
Когда я поступил в аспирантуру, «библией» для студентов по международной политологии была «Международная политика» Ганса Моргентау. Это один из основополагающих текстов для реализма. Если выделить сухой остаток, Моргентау придерживался мнения, что международная политика есть борьба за власть и что только власть имеет значение. Государства стараются довести до максимума собственную власть или власть своей группы над другими группами.
Но это крайняя точка зрения. Для меня реализм — попытка понять пределы достижимого. Он не определяет суть твоих целей, но указывает, чего ты реально можешь добиться. Идеалист же начинает с другого конца: какими мы хотим быть? чего мы хотим достичь? — и не думает о том, насколько выполнимы его задачи. Тогда в попытке достичь цели он приносит в жертву те самые цели, к которым стремится. Разница в том, с какого конца браться за дело и — как сказал Збиг — как соблюдать баланс цели и средств. Пытаемся мы допрыгнуть до звезд? Или настолько погрязли в повседневных трудностях, что даже не можем поднять взгляд и поверить, что продвижение вперед возможно? Мы должны найти промежуточный путь между крайностями реализма и идеализма. Если и отклоняться от этого равновесия, то в ту сторону, где США пытаются достичь чуть большего, чем это возможно.
Но именно чуть. Когда мы говорим, что сделаем мир демократическим, — это уже не чуть. И, пытаясь это осуществить — что мы прямо сейчас и видим, — мы рискуем принести больше вреда, чем пользы.
БЖЕЗИНСКИЙ: В конце концов следует признать, что нам всем свойственно ошибаться. Найти равновесие — это прекрасно, но чаще мы ошибаемся, отклоняясь в ту или в иную сторону. Это неотъемлемое свойство человека, и потому никогда не прекратятся споры о том, насколько мы реалистичны или идеалистичны.
* * *ИГНАТИУС: Нас, американцев, часто обвиняют, что нам нужно все и сразу. Мы хотим, чтобы налоги были ниже, а социальных служб — больше. Мы хотим свободы и защиты от врага. Эта привычка желать все и сразу будет нам мешать, когда мы начнем решать на практике проблемы двадцать первого пека. Вот очевидный пример: вы оба согласны, что изменение климата, глобальное потепление — реальная и все более серьезная мировая проблема. Чтобы ее решать, нужно изменить образ жизни. Возникает необходимость ввести ограничения на выбросы углекислого газа — путем налогообложения или как-то иначе, — а это скажется на образе жизни американцев. Как лидер-президент сможет добиться от нас того, что нелегко для каждого, но для американцев, пожалуй, труднее всех: поступиться частью своего баснословного богатства и несколько ограничить свои возможности и ради каких-то благ в отдаленной перспективе и общемировой пользы? Збиг, как сможет президент научить этому народ?
БЖЕЗИНСКИЙ: Волшебного рецепта нет, но начать придется с того, о чем вы сейчас говорили: с личного участия президента. У президента — уникальное положение, чтобы стать просветителем страны, открыто и четко обозначить ее долговременные интересы и показать, как эти интересы вписываются в общемировой контекст. Сделать это может только президент. Вопрос в том, как определи понятие «хорошая жизнь». Неограниченное накопление материальных ценностей и потребление все большего количества энергоносителей — это и есть окончательное определение хорошей жизни? И как это можно будет осуществить и поддерживать в мировом масштабе?
Я не думаю, что ответы легко будет найти, и уж точно не удастся их найти за срок пребывания у власти одного президента. Эти ответы родятся в полемике, которую следует начать в стране, установившей в каком-то смысле мировой стандарт материальных достижений и которая в наступившую эру глобализации должна спросить себя: совместим ли этот стандарт с выживанием (в буквальном смысле) человечества в глобальном масштабе? Мы не станем резко менять свою жизнь волевым решением, но такой вопрос должен быть включен в нашу национальную повестку дня.
СКОУКРОФТ: Сначала мы должны изменить образ мыслей. Развиваясь в индустриальную эпоху, мы вообще вели себя так, будто отходы производства мгновенно исчезают в окружающей среде, а способность природы их поглощать бесконечна. Мы выливали их в океан, выпускали в воздух, и они будто тотчас же исчезали. Теперь мы начинаем понимать, что они не исчезают. И количество загрязняющих веществ растет с ростом населения и развитием цивилизации до тех пределов, когда природа уже не может их поглотить. Вот этот фундаментальный факт американцам предстоит еще осмыслить.
ИГНАТИУС: В этом контексте не пора ли Соединенным Штатам подумать о вариантах суверенитета? Нам невероятно повезло с нашим уникальным географическим положением — в окружении двух океанов. Мы не просто город на холме, мы — город на высоченном холме, который очень трудно атаковать, и мы привыкли к крайнему суверенитету. Не следует ли в двадцать первом веке подумать о более взаимозависимом суверенитете? Признать, что наше существование зависит от нашей способности сотрудничать с другими народами для решения глобальных проблем — эпидемий, изменения мирового климата и других?
СКОУКРОФТ: Следует обязательно. Возьмем как главный пример охрану окружающей среды. США могут строжайше соблюдать экологическую дисциплину, но толку не будет, если весь остальной мир не последует нашему примеру. Китайцы и индийцы, например, могут сказать так: «Вам хорошо предлагать ограничения, потому что вы уже миновали индустриальный период, выбросили в окружающую среду огромное количество загрязняющих веществ и ничего за это не заплатили. А для нас выходит, что за развитие нужно платить приличную цену? Спасибо, не надо».
Надо договариваться. Надо наводить связи через национальные границы. Проблемы такого рода — будь то нехватка моторного топлива или изменение климата — не могут быть решены в национальных рамках. Их можно решать лишь совместно, и это возвращает нас к вопросу: какие должны быть механизмы сотрудничества? Международные организации слишком редко отвлекаются от проблем войны и мира или вопросов торговли на те проблемы, о которых мы теперь говорим. Но им придется заниматься такими проблемами, и чем раньше это будет сделано, тем меньше решений придется принимать в обстановке кризиса.
БЖЕЗИНСКИЙ: Вы спросили о национальном суверенитете. Мы уже говорили раньше о противоречиях между реалистом и идеалистом в одной личности — или в группе лиц, принимающих решения. Эти противоречия неявно касаются и переопределения национального суверенитета. Однако в этом вопросе совершенно недопустима поспешность, поскольку наша демократическая общественность на протяжении нескольких столетий жила в уникальных и безопасных условиях изоляции и фактически отождествляет себя с этим суверенитетом. Подобная работа потребует корректировки или переопределения самого понятия «суверенитет». Но если слишком рано заговорить о принесении в жертву суверенитета ради решения этих вопросов, наверняка последует взрыв национализма, который сделает невозможным принятие какого бы то ни было решения.